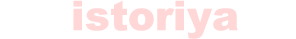Часть I. Лиза
Милая моя. Милая моя. Милая моя Лизавета.
Егор сидел на ковре перед разложенной доской, плечом чувствуя колени Лизы. Она, задумчиво подперев голову, глядела на фигуры. Пахло от неё, как всегда, летним лугом — васильками, пижмой, прохладной рекой.
Лиза потянулась к ферзю, задев хохолок на макушке Егора. Егор дёрнулся, резко оглянулся. Лиза быстро, рассеянно улыбнулась и двинула пешку.
— Шах.
Снова улыбнулась — шире, задорней, лучики разбежались вокруг глаз:
— И мат!
Ежов хмыкнул, скрывая за усмешкой смущение.
— Лиза, — сгребая с доски фигуры, проговорил он. — У меня для вас подарок. Я думаю, это должно понравиться вашей любознательной, пытливой натуре…
Она рассмеялась, опустилась рядом с ним на колени и одёрнула голубую юбку.
— Оставь этот тон, Горик. Я себя чувствую престарелой тётушкой!
Егор, хмурясь, подтянул свой горбатый ранец и вытащил жёлтую, аккуратно подклеенную книгу. «Занимательная комбинаторика», значилось на обложке.
— С Днём Рождения… Лиза. Желаю здоровья и успеха в личной жизни, — краснея от своего косноязычия, выговорил Ежов.
— Ух ты! От сердца, поди, отрываешь?
Сделав вид, что не замечает его пунцовых ушей и щёк, Лиза наугад раскрыла «Комбинаторику», провела пальцем по строке, пошевелила губами. Наконец, выждав время, достаточное, чтобы с Егорова лица схлынула краска, подняла голову:
— Горик, спасибо. Это чудесный подарок. Вот только… ты не обижайся, ладно? У меня такая книга была в выпускном классе. Оставь, тебе больше пригодится... А я, — спеша перебить смущение и досаду Егора, торопливо полезла в сумочку Лиза, — а я тебе напишу название другой книги… Очень хорошей. Если тебе нравится «Комбинаторика», то и эта придётся по душе.
Чувствуя в носу предательскую горячую щекотку, Егор, не шевелясь, пристально глядел, как тонкая Лизина рука выводит на нежно-зелёном листе записной книжки едва разборчивое «Криптография».
— За этой наукой будущее. Попроси отца, чтобы заехал к Седлецкой, у неё должна быть.
Лиза сложила бумажку вдвое и протянула Егору. Тот осторожно принял лист, коснувшись кончиков прохладных, длинных лизиных пальцев. Спрятал за манжет. Поздно вечером, когда Лиза уехала, и дом затих, Ежов устроился за столом и вытащил, наконец, заветную бумажку. Криптография как наука в эту минуту интересовала его мало. Зато он долго вглядывался в завитки, в разорванное колечко у «ф» и сплюснутый кружок у «я», вспоминал, как Лиза водила по листу рукой, подносил его к лицу, вдыхая островатый запах чернил и слабый-слабый, почти уже улетевший аромат черносмородиновых духов.
***
В гимназии дело шло туго, особенно после перевода в старший класс. Призрак осеннего свидания с Лизаветой осунулся и побледнел, а впереди, до самого лета, разлеглись одни только бесконечные уроки, на которых не было ничего похожего ни на совершенные в своей логике шахматы, ни на загадочные инварианты, ни, тем более, на волшебную, тонкую и коварную, как искусная любовница, криптографию. Эта смелая метафора, в сочетании с мыслями о Лизе, заставляла Егора краснеть, одёргивать рукава и наглухо застёгивать гимназический мундир.
До апреля, долженствующего принести хоть какие-то надежды, оставалось два долгих, тоскливых и грязных месяца. И если март был ярок хотя бы чернотой проталин, то февраль являл собой откровенную слякоть. Егору казалось, что его протягивают через узкий, тугой шланг — так, что сплющивает по всем фронтам и закладывает уши. Несколько раз он порывался написать Лизе и даже обманом выведал у матери адрес, но всякий раз садясь с этим за стол, Егор поднимал глаза и встречал в стекле своё отражение — вихрастое, мелкое, со вздёрнутым носом, несимметрично и некрасиво усыпанным веснушками — будто швырнули в лицо подсолнечной шелухи. Коротко и зло фыркнув, Егор, стыдясь себя, откладывал бумагу, в которой раз говоря: я объяснюсь с ней в следующую встречу. Непременно.
А чтобы сократить время до этой встречи, Ежов смастерил простенькую, но действенную Сжимку. В первой своей версии она умела лишь сокращать томительные минуты школьных уроков. Но через неделю доработки Сжимка уже прожёвывала целые дни — требовалось только, чтобы никто в это время на Егора пристально не смотрел, особенно мать: уж она бы заметила и отсутствующий взгляд, и ниточку слюны на подбородке. Сжимка сэкономила Ежову немало часов; будни в гимназии пролетали, как весенние пичуги, а выходные он самозабвенно посвящал криптографии, новым изобретениям и экспериментам.
Но всему приходит конец — сошли и февраль, и март, и рыхлый и грязный снег. На косогоре за домом высыпала мать-и-мачеха, чёрные зимние веснушки порыжели, оповещая о скором солнце, а от полей, из-за далёкой, непаханной ещё полосы, потянуло, наконец (а может, Егору лишь показалось), дымом, васильками, пижмой и пробуждающейся, звенящей рекой.
***
Летняя встреча настала внезапно — Егор даже не успел испугаться; Лизу ждали к концу сенокоса, а приехала она в самом начале июля, к маминым именинам. Весь день они с матерью просидели в беседке, вспоминая курсисток, вредного начальника и приёмы шитья; Лиза четвёртую зиму посещала благотворительные рукодельные вечера, которые устраивала мать Егора. Она сдружилась с Лизаветой, когда та вместе с бабушкой на лето поселилась в соседней даче. Тем, первым летом Лиза то и дело бегала в лавку за свечами и керосином, ездила в город за свежим бельём и средством от плесени — а Егор украдкой, жадно и ежедневно глядел из окна на её лёгонькую карету, на васильковое платье и воздушные, светлые волосы под вышитой косынкой.
Это лето Лиза снова думала провести на старой даче — но теперь одна и только наездами. Бабушка осталась в столице, променяв прелесть имения на возможность продолжать выходы в свет.
Узнав обо всём этом за завтраком на следующий после приезда Лизы день, Егор со сладкой досадой заметил, как невпопад, неровно забилось сердце. Два месяца рядом с Лизой — больше того, два месяца, свободных от гимназии, шестьдесят дней, которые он может посвятить одним только мечтам, волшебное воплощение которых сейчас, должно быть, завтракает в соседнем доме, всего в какой-то сотне шагов...
Эта мысль подбросила, сорвала и потащила прочь, как могучий вихрь.
— Куда ты? — позвала вдогонку мать.
— Поздороваюсь с Лизой! — крикнул Егор уже с террасы, выскочил за калитку и перешёл на бег.
Соседний дом и вправду выглядел обитаемым: простояв всю зиму с заколоченными ставнями, теперь он блестел вымытыми стёклами и пах мятным чаем, дверь в сени была отворена, а изнутри неслось мягкое шипение граммофона.
— Лиза? — облизывая пересохшие губы, крикнул Егор. — Лиза?
Голос осип, дыхание сбилось, а пальцы онемели. Ежов застыл, стараясь сообразить, достаточно ли громко он позвал, услышала ли она, сколько ждать, войти или повернуться, бежать…
— Горик? — раздалось со двора. — Егорка! Ну, здравствуй! Здравствуй, дружок мой!
Она вынырнула из-за зарослей сирени и крапивы, раскрасневшаяся, взъерошенная, совсем не изменившаяся с зимы. Через плечо у неё было перекинуто полотенце, а на шее болталась верёвка с прищепками.
— Не обнимаю — руки мыльные, — засмеялась Лиза, стряхивая с пальцев пену. В воздух полетели мелкие цветные пузырьки, они закружились на сочно-зелёных листьях сирени и полопались с хрустальным звоном, с запахом сладким и золотым, от которого у Егора закружилась голова и куда-то схлынули все силы.
— Мне немного закончить — видишь, горничная осталась с бабушкой, ко мне приедет только на неделе… Приходится самой, — кивая за дом, где ветер раскачивал пёстрые лоскуты полотенец и шифоновых шарфов, объяснила Лиза. — Ты заходи, заходи. Я сейчас тоже, только умоюсь. И будем пить чай.
Не чуя ног, Егор прошёл в сени. Непослушными пальцами наладил граммофон и с удивлением узнал «Метель», игравшую в гимназической зале, когда вручали аттестаты выпускникам. Страшно подумать: ещё полгода — и это предстоит ему самому. Да, выпускной класс Сжимкой не проведёшь, придётся заниматься… Но будущая зима, унылая, снежная и слепая, меркла перед сегодняшним днём, перед пышным летом, полным солнца, зелени, птичьего щебета, запаха васильков...
Это были месяцы купания, катания в лодке, беготни наперегонки с собаками — ветер ловко надувал её летящие шарфы и кофточки, развевал белые волосы. Несмотря на то, что Лиза приезжала только по будням, они успевали заглянуть на сенокос, побывать на заливных лугах, где сладко цвёл иван-чай, насобирать в лесу ягод, позднее — грибов, а потом, на горячем исходе дня, ворваться в хлебную лавку, купить каравай, золотисто-коричневый, хрустящий, похожий на закатное солнце, и съесть его, запивая молоком, у ней на чердаке, среди пыльных и брошенных голубиных гнёзд, стропил и косо падающих вечерних лучей. Бывало, Лиза приходила к Ежовым, и втроём с матерью они подолгу засиживались на террасе за вечерним кофе (который Егор ненавидел, но пил, чтобы не выглядеть ребячливо), за твистом или мушкой, за разговорами, воспоминаниями, даже гаданиями — он с трепетом заглядывал в глубокую чашку, всматриваясь в застывшие на воде извивы воска...
Засыпая, очарованный, тревожный, Егор изо дня в день твердил: завтра. Непременно завтра.
В те дни, когда Лиза оставалась в городе, он, млея, садился за учебники. Узнав, что она собирается на Высшие женские курсы и, следовательно, остаётся в дома, а не едет ни на воды, ни в заграничный пансион, Ежов с отчаянной решимостью нырнул в учёбу, чтобы обязательно поступить в столицу, а не отправляться по протекции отца в Бонн сразу после выпускного класса. Теперь он находил в гимназических учебниках даже некоторую прелесть — особенно его волновали тригонометрия и механика, такие безупречно-ясные, по неведомому, нерегулируемому щелчку раскладывавшиеся по полочкам и открывавшие чёткий, светлый, полностью укомплектованный и бесконечно упорядоченный путь в мир высших изобретений.
Солнце катилось по горячему небосводу, золотя её кожу, травы наливались соком, «завтра» откладывалось вновь и вновь... А потом, как обрыв, пришла ледяная осень , кони, фыркая, встали, и в пропасть из-под копыт с перезвоном драгоценных камней полетели комья грязи и куски холодной, перепаханной на зиму земли.
Лиза сообщила, что будет на даче всю неделю — нужно привести дом в порядок, обиходить двор, рассчитать временных рабочих, — а потом уедет уже до следующего лета и разве что с подругам нагрянет с ночёвкой к концу сентября — по грибы.
Всё кругом померкло. Берёзы стояли уже не в золотом платье, а в буром тулупе. Ручей ёжился и шипел. Сам Егор тоже ёжился, молча разглядывая Лизу — она единственная в этом разом потускневшем мире источала свет, пахла летом, васильками, краюхой хлеба и чёрной смородиной.
— И что ж теперь? — хотел сказать он хмуро и решительно. Но голос подвёл, и Ежов только тонко пробормотал:
— Я буду скучать по вам, Лизавета.
— Опять «Лизавета»! — возмутилась она, подошла и крепко, двумя руками, пожала его руку. — Спасибо за чудесные деньки, Горик. Обязательно зимой заезжайте к нам с Катериной Антоновной. И на Рождество обязательно. На Курсах хотят устраивать бал — куда я без кавалера?
Егора обожгло и тотчас окатило звонкой ледяной водой. Кавалер... Это она про него?
— Приезжайте, приезжайте, — серьёзно говорила Лиза. — Непременно. А теперь пора раскланяться, мне ещё рассчитать садовника…
Она отпустила его руки, но не ушла, и Егор замер, не зная, что предпринять. Секунды убегали, как песок сквозь пальцы, совсем как когда они строили замки на косе у реки. Глаза у Лизы сузились и потемнели. Она будто тоже чего-то ждала, не прогоняла. Хотела сказать — что ж ты не уходишь? Но не говорила.
Егор повернулся и деревянно вышел в сени. Ночью он всерьёз думал о том, чтобы создать приспособление, которое ловко объяснялось бы в чувствах. В полудрёме даже нарисовал в голове схему, но всё никак не ладилось, не хватало какой-то детали — такая штука была посложней Сжимки…
***
Утро выдалось ещё серей и холодней, чем накануне. Ежов проснулся рано, спустился в столовую — на террасе уже не завтракали, зябко. Мать сидела за ненакрытым столом с чашкой кофе. Рассеянно кивнула, качнув высокой причёской.
— Рано уехали.
— Кто?
— Лиза. Ещё затемно пригнали бричку из города, погрузили всё и уехали.
От того, что Лиза не зашла попрощаться (а он так рассчитывал на эту решительную минуту!) у Егора во рту стало сухо и кисло.
— Садись. Выпьешь кофе, Егорушка?
— Нет, — отрезал он, быстро поцеловал мать в щёку и вышел в сад. Долго стоял, глядя в белёсое небо, потом гонял по лужайке тополиные листья. Уехала… Искушение забиться к себе, завести Сжимку и тихонько просидеть до самого конца сентября, было огромно. Но, даже не взглянув в глубокий ящик со своими механическими игрушками, Егор сел за стол и придвинул сборник стереометрических задач.
***
К концу сентября долгие прогулки с блужданием по мокрому лесу совершили суперпозицию, вылившуюся в затяжную, тяжёлую простуду. Мысля цветно и объёмно в жарком коконе одеял, Егор однажды как будто услышал за дверью голос Лизы и даже встал, но несколько шагов выжали досуха, и позже мать нашла его на полу комнаты, синающим в кулаках влажную от пота простынь и бормочущим: сегодня… сегодня…
Грибная встреча бесславно накрылась болезнью, оставалось ждать только Рождества, выпускного вечера в гимназии и того таинственного бала, устраиваемого Высшими курсами. Егор с замиранием сердца размышлял — всерьёз ли она говорила? Годен ли он? Не привиделось ли ему всё это? Он включал в тёмной комнате свет и вставал перед стеклом, отражавшим его, как зеркало: за лето, конечно, подрос, слегка раздался в плечах, но эти прыщи, и щетина… Надо будет увязаться с отцом в город, когда тот поедет в присутствие. Или с матерью, когда отправится к модистке. Попроситься в парикмахерскую, чтобы подстригли не под горшок…
— Попроситься! — с досадой и раздражением крикнул стеклу Егор. Как будто он малец, без материнской юбки ни шагу… Он подошёл к окну, рывком сдвинул шторы, погасил свет и упал на кровать. Досадливые мысли долго не отпускали, но он привычно вызвал летние воспоминания, и постепенно золотистый от солнца Лизин силуэт вытеснил желчный зуд. Егор задремал, сонно размышляя о новогоднем бале, о том, как всё сложится исключительно удачно, а после, чуть погодя, на выпускном вечере, она будет смотреть на него, сияя, и, может быть, подарит цветы или книгу, как в его детские годы, когда Лиза казалась такой взрослой, такой стремительной и мудрой, а разница в пять лет между ними казалась настоящей пропастью...
Стукнула дверь, из коридора пробился слабый луч.
— Егорка?.. — шёпотом позвала мать. Егор хотел было притвориться, что спит, но, думая о Лизе, вдруг почувствовал такую нежность, что вскочил, бросился к матери и обнял, вдыхая знакомый, тысячу раз нюханный, но неизменно ласковый и тёплый аромат.
— Что ты, Егорка? — тихонько засмеялась она, ероша его волосы. — Чего ты?..
***
В ноябре Лиза написала ему. Конверт незнакомо пах жасмином, и Егор в смятении долго вертел письмо, прежде чем прочесть.
Ни о каком бале она не говорила.
— Пошутила, — стараясь не падать духом, сказал Ежов своему двойнику за окном. — Ничего. Все девушки ветрогонки.
В последнее время он взял привычку чаще и чаще разговаривать с самим собой: можно было обсуждать мысли, не таясь, вместе думать над схемой очередного эксперимента или воображать, дополняя друг дружку, будущую жизнь — когда он приедет в столицу, поступит в Инженерно-физический, молодой, блестящий, подающий огромные надежды… Он видел себя одетым по форме, с серебряной нашивкой на рукаве, гладко причёсанным, в подкованных ботинках, ловко цокающих при ходьбе... Она, разумеется, не сможет устоять.
Накануне выпуска Егор попросил мать приехать в гимназию только к самому акту. Он почему-то был уверен, что Лиза придёт раньше, и они обязательно объяснятся — иначе, после стольких мысленных с нею бесед, и быть не могло.
От волнения всё внутри дрожало, как будто печь, в которой он закалял металлические корпуса, колдовским образом переместилась к нему под рёбра. Разумеется, вручение аттестата волновало; но в этом он, по крайней мере, был уверен. А вот Лиза… Придёт ли? Мать сказала, та писала ей, обещала обязательно заглянуть. Но если придёт — что он скажет? Вот я и взрослый? Теперь мы можем разговаривать как равные, теперь я волен вас любить?..
От смелости и бесповоротности этих слов, произнесённых даже мысленно, у него захватывало дух, а под правое колено вгоняло ледяные шпоры. Но, о чём бы Егор ни думал, что бы ни делал, час встречи порывисто приближался: вот он выходит из дома, слизывая с губ кофейную горечь, вот карета подпрыгивает на расхлябанном, припорошенном снегом тракте, вот уже понеслись привычные улицы, часовая лавка, кондитерская, садик, обрамлённое колоннами присутственное место… Вот и гимназия. Егор поднялся по ступеням, машинально мазнув рукой по каменному ботинку статуи поэтессы, и вошёл под высокие, мрачные своды.
Смеркалось рано; залу заливали десятки огней, электрические лампы сияли вперемешку с серебрёными канделябрами; у дальней стены протянулся покрытый красным сукном стол. Портьеры на окнах подняли, и Егор украдкой глянул на двойника. Подтянутый, строгий, правда, бледноват… Ежов расправил плечи, сощурился и шагнул к товарищам. Он юморил, как никогда, распространялся о своих изобретениях, живо интересовался делами друзей, строил планы на вечер… Если она уже приехала — пусть видит, что он востребован, остёр, что он душа компании…
Она приехала. Она стояла в толпе родственников и учителей, глядя, как ему — последнему из выпуска — вручают аттестат с отличием, добытый во имя неё и во имя того будущего, о котором Егор думал так много, что оно казалось почти сбывшимся. Она улыбалась, сияя, в невероятном городском платье, так не похожем на её летние платьица, с уложенными волосами и длинными, переливающимися серьгами. Получая награду и пожимая руку начальника гимназии, Егор предвкушал, как подойдёт к ней, вот сейчас, уже через минуту, как товарищи будут с завистью оглядываться на него и на его даму, как после, разгорячённые, они выйдут в холодный сад, и он накинет ей на плечи свою шинель, и… и…
Едва не поскользнувшись на натёртом полу, Ежов неловко прижал локтем аттестат и, словно пьяный, направился к толпе. От огней, шума, поздравлений и рукопожатий перед глазами плыло. Путаясь в чужих дамах и родителях, наталкиваясь на уже бывших товарищей, увернувшись от матери, он наконец остановился рядом с Лизой.
— Поздравляю, Горик! — воскликнула она, совсем как мать с утра, целуя его в щёку. — Вот и закончил… Никогда не сомневалась, — кивнула на отличный аттестат. — Ты станешь великим изобретателем. Не бросай комбинаторику, — подмигнула, подхватила под руку, потянула в сторону...
«Вот оно!» — полыхнуло в мозгу.
— Огромная радость, конечно. Что дальше? Куда планируешь? Ты писал, в инженерное... А я… Я хочу признаться кое в чём, Горик… Я ещё никому не говорила. Но…
У него обмякли ноги, пришлось прислониться к колонне, подвинув какого-то мужчину в военном мундире. Тяжело дыша и стараясь только, чтобы ни одно её слово не утонуло в гуле, Егор уставился на разрумянившуюся, невероятно, неописуемо красивую Лизу.
— Горик! Познакомься, пожалуйста... — Она за плечи развернула Егора так, что он оказался нос к носу с военным. — Это Иннокентий Коршанский. Мой жених…
Часть II. Петля
Егор возненавидел Коршуна не с первой секунды. Гораздо раньше — с той минуты, как этот Иннокентий, этот Кеша, как она ласково называла мужа за семейным обедом, посмел однажды подойти к Лизе.
...Ежов не помнил, когда, с кем вернулся домой после выпускного. Проснулся в своей постели опухший, с гудящей головой, заботливо переодетый в домашнюю детскую рубашку.
— Ненавижу, — всхлипнул сквозь зубы, подтягивая колени к груди, зарываясь в одеяло. — Ненавижу!
Потом вскочил. Крушил мебель. Перепуганная мать вызвала доктора, но к его приезду Егор, безудержный после пробуждения, сник и отупел. Доктор констатировал душевное волнение, прописал покой и сон. Мать трепетно соблюдала рекомендации, принося по утрам тёплый бульон, а по вечерам сопровождая сына в кратких прогулках.
К исходу недели Егор впервые разлепил губы и хрипло поинтересовался:
— Что Лиза?
Мать встрепенулась и начала рассказывать: что Лиза, оказывается, выходит замуж, что жених — партия, какую поискать, что она уже вовсю подбирает приданое и даже попросила кое-что сшить…
— Ты понимаешь, столовое бельё… Какой дом может быть без добротного столового белья? А ещё — только представь, Егорка! — они решили жить тут. Конечно, Иннокентию придётся каждый день ездить на службу, но Лиза говорит, здесь спокойней. Уже на следующей неделе приедут рабочие, будут перекрывать крышу, перекладывать печь...
Той ночью Егор-изобретатель впервые встал на сторону зла. Терпеливо дождавшись, пока молодые закончат ремонт и въедут, он на правах старого друга оказался в числе первых гостей. Вежливо обходясь с Коршуном, с тоской поглядывая на Лизавету, Ежов бочком, бочком проник и в их спальню — совсем небольшую комнатку, отделанную, однако, с отменным вкусом: широкая кровать, лавандовые портьеры, аккуратные серебряные подсвечники, узкий и аскетичный туалетный столик...
Сообразив, что, раз стол стоит справа от постели, то Коршунова сторона, вероятно, левая, Егор быстро сунул под кровать серый брусок, долженствующий в течение месяца убить Лизиного мужа. Поправил вышитое матерью покрывало и вышел в холл — его уже искали, приглашая к чаю.
***
Лиза заглянула к ним через три дня — Егор в это время заполнял бланки для вступления в должность. Отказавшись от Инженерно-физического, он поступал преподавателем физики в свою альма матер. Учёба в институте требовала постоянного присутствия в столице; теперь, когда Лиза поселилась в деревне, это было невозможно. Работая же в гимназии, можно было жить дома. Конечно, придётся ежедневно ездить по часу в один конец, но это не ново — Ежов провёл так все гимназические годы. Хуже ждать… Наблюдать издалека, выводить из косвенных намёков, из выражений лиц, из приподнятых бровей — что там с Коршуном...
Лиза пришла весёлой и посвежевшей после краткого свадебного путешествия. Из-за службы Коршанский не мог подолгу отсутствовать в столице, так что они в неделю побывали в Баварии, Венеции, конечно, Франции — и вернулись в старый, спешно отремонтированный дом.
— Горик, гляди, что я тебе привезла! Конечно, на немецком, но, думаю, тебе не составит труда. Катерина Антоновна сказала, ты собрался физиком в гимназию? Не жалко хоронить талант? Ты ведь на инженера хотел? Ну, дело твоё, дело твоё…
Она, улыбаясь, вручила ему сборник блестящих шахматных этюдов, купленный в роскошном книжном Мюнхена. Лиза рассказывала об этом книжном, о восхитительных пирожных, о галантерейных лавках, дворцах и соборах, о парках, похожих на леса, о чёрных венецианских сайтах, о первом классе Норд-экспресса и даже замечательном шахматном турнире, на котором им удалось побывать, — а Ежов смотрел и, чувствуя, как где-то внутри безжалостно щемит ржавой скрепкой, думал, что она стала чуточку другой, что это уже не совсем та Лиза, с которой они бегали на песчаную косу, которой он церемонно дарил скромные полевые букеты, составленные с полным знанием языка цветов…
На прощание, выпив две чашки чаю и оставив матери хитрый, изукрашенный итальянский несессёр, Лиза попросила:
— Горик, заглядывай к нам на выходных. Кеша что-то захандрил. Ему непривычно в деревне — всё-таки никакой светской жизни. Заглядывай. Он ведь тоже увлекается инженерным делом, вам будет, о чём поговорить.
Ежов кашлянул, замирая, чопорно пожал её маленькую ладонь и сбежал.
***
Через неделю она явилась уже очевидно озабоченной и даже встревоженной.
— Упрашиваю не ехать завтра, поберечь себя, — услышал Егор из-за прикрытых дверей столовой. Было накрыто для чая, но ни мать, ни Лиза не притронулись к чашкам, тихо беседуя о недугах, травах и нервной службе. Вскоре Лиза засобиралась; на прощание мать отдала ей мешочек сушёной таволги и долго напутствовала, как нужно заваривать. Лиза, закусив губу, мелко кивала, тщательно запоминая. Потом подхватила тряпичную сумку, из которой торчала курица (Лиза! Поэтичная белокурая Лиза и эта синяя курица со скрюченной лапой…), суетясь, вышла из-за стола и в дверях столкнулась с Ежовым.
— О… Горик… И не повидались нынче. Спешу…
Он молча взял её сумку, донёс до крыльца, потом до калитки. Остановился, коротко глянул с болью и жадностью. На всём лизином облике лежала эта печать жены — может быть, даже её красившая, но беспощадно отдалявшая от образа той Лизы, по которому Ежов так тосковал.
— Что, даже не проводишь? — грустно спросила она, вырвав его из созерцания.
— Провожу, — через силу ответил Егор, отворяя перед ней скрипучую, обвитую чёрной замёрзшей крапивой калитку.
— Горик, — у самого дома, светившегося всеми окнами, попросила Лиза. — Ты ведь завтра поедешь в гимназию?
— А как же, — вспоминая вечно жующих, ковыряющих в носу, неопрятных гимназистов, мрачно буркнул он.
— Пожалуйста, вызови доктора. Мне Кеша не позволяет. Не понимаю, что с ним!
В лизином голосе прорезались слёзы, Егор содрогнулся, дёрнулся к ней, и с губ почти сорвалось — убери брусок из-под кровати! — но он промолчал и только кивнул, проследив, как Лиза, оскальзываясь, взбежала на крыльцо. Поднял воротник и кружным путём вернулся домой, впервые за долгие месяцы употребив Сжимку, чтобы переждать бессонную, тугую и метельную ночь. «Завтра, — прошевелил губами в последнем проблеске мысли. — Завтра признаюсь».
Наутро Ежов послушно вызвал врача, но доктор, тот самый, что приезжал к нему самому, лишь посоветовал больше отдыхать, выписал глазные капли от воспаления и, собрав склянки, уехал.
Прошла ещё неделя, и, чувствуя, как проваливается куда-то сердце, Егор из окна отцовского кабинета увидел, как к соседнему дому подъезжает кавалькада карет. Из первой вышел доктор в белом. Из второй — ещё двое врачей. Из третьей выскочила Лиза и, обогнав всех, бросилась к дверям.
Промаявшись ночь, Ежов затемно выскользнул на холодную просёлочную дорогу и бродил под её окнами, пока в сумеречной глубине не зажёгся слабенький огонёк.
— Лиза, — лихорадочно зашептал он, костяшками стуча в окна. — Лиза, убери брусок из-под кровати! Убери… пока не поздно ещё… Лиза!
Когда к окну подошла тень — настоящая Лиза, заплаканная, с наспех собранными волосами, — Егор пригнулся, затих, онемел, поражённый открытием: она отвергнет его навсегда, если узнает, что он совершил.
День прошёл в тумане тревожной головной боли. Егор едва справился с уроками у средних классов, а у старшего объявил самоподготовку. Все мысли были за городом — там, где стоял пропахший лекарствами и её духами, с поселившейся сиделкой и доктором, жарко натопленный, умирающий дом. Но когда наконец отзвенел колокольчик и Егор вскочил в бричку — в голову ударили страх, паника, ужас. Он спрыгнул на окраине города, долго плутал в редком сосняке. В сумерках очнулся и почти побежал домой.
У её крыльца снова стояла череда карет. У чёрного хода собралась толпа. Самой Лизы Егор не увидел.
«Поздно», — прозвенело в ушах, и он со стоном развернулся и влетел в свой собственный дом, как и соседний, пропахший предчувствием беды.
— Мама! — беспомощно крикнул Егор, но мать была на благотворительном вечере, а отец, видимо, задержался с полковыми товарищами, и во всём доме не было никого, кроме отражения в окне, высокого и плечистого, подстриженного по последней моде, в изящном фраке и остроносых ботинках, с накрахмаленными манжетами, серебряной часовой цепочкой и надушенными висками, отражения блестящего и трусливейшего человека на земле.
— Я должен сказать. Я должен сказать, — бормотал Ежов, метаясь по столовой. — Должен! Должен! — бродя по кабинету матери. — Должен! — яростно хлопая дверью собственной комнаты и врываясь в кабинет отца.
— Поздно! — торжественно и зловеще прогудело в ушах, когда он через окно увидел, как двое грузных врачей спускаются с соседнего крыльца, таща за собой что-то… кого-то… Нет, всего лишь врачебные чемоданы. Лизы не видно. Толпа рассосалась. Может быть, ещё не поздно.
Он никогда не был храбр, он ни разу не отважился сказать ей в лицо по-настоящему важную вещь. Кто знает, если бы он сказал обо всём раньше… Кто знает! Но сейчас… Ещё есть время… Признаться — никогда! Нужен другой выход… Как в шахматах: самый загадочный и одновременно самый простой ход. Ключ. Да. Образец сырой, но всё должно сработать. Иначе… иначе… Риск будет его платой за робость, за трусливость… за убийство!
Егор вцепился в волосы и бросился к себе. Из огромного ящика в углу достал обложенный ватой свёрток. Распаковал. Трясущимися руками утвердил на столе, выставил время — месяц… нет, месяца мало… Нужно успеть до их свадьбы… два месяца… Завёл пружину и, положив пылающие влажные ладони на гладкий железный корпус, закрыл глаза.
Ещё не поздно. Всё получится. Ещё. Не. Поздно.
Сквозняк забрался в рукава и воротник, пробрал до костей.
Егор моргнул.
За окном клубилась чёрная метель. Дрова в печи догорели. За стеной не раздавалось ни звука, только свистел и скрипел по стёклам снег. Ежов стоял посреди физической лаборатории; пахло знакомо, по-гимназически: чернилами, потом, сукном форменных мундиров, кислыми щами.
Егор толкнул дверь, но вместо коридора увидел перед собой мрак. Сердце заколотилось, он вцепился за косяк, боясь, что его увлечёт в эту тьму. Пятясь, отбежал к окну, распахнул створки — та же чёрная, объёмная пустота. Он оказался в вакууме; весь его мир был ограничен физической лабораторией.
Календарь на стене показывал двадцать девятое января, день его выпуска.
Ни души. Ничего кроме лаборатории, полной коробок с хламом, динамомашин, инструментов и градусников.
Перед глазами тотчас встало жёлтое лицо Коршанского с градусником во рту.
«Лиза», — молнией полыхнуло в мозгу, и всё окутала тьма.
Сквозняк обвился вокруг шеи, сдавил петлёй. Егор открыл глаза. За окном клубилась чёрная метель; он стоял посреди пустой лаборатории, а за порогом скалилась густая и жадная тьма.
Ежов, не давая подняться панике («Ты знал. Ты знал, это был сырой агрегат, это был риск…»), проверил все шкафы и отыскал дырявый сачок. Осторожно встал на колени у самого порога, зачерпнул тьмы — сначала сачком, потом ладонью. Кожу обожгло, рука онемела до локтя. Егор сквозь зубы втянул воздух и прижал кисть к груди. Сачок, колыхнувшись, беззвучно рухнул в небытие. На память пришло, как на опушке сосняка они с Лизой ловили хрупких белых бабочек. Не успев толком разглядеть этой картины, Егор опять окунулся во тьму и очнулся в центре холодной, пустой лаборатории.
Встал. Методично ощупал стены. Раскрыл окна, замахнувшись, швырнул в чёрную муть металлический цилиндр, какие на уроках цеплял к динамометру. Цилиндр ушёл в тишину без всплеска. Ничто не изменилось. Когда при случайной мысли о Лизе петля снова закинула Ежова в исходную точку, цилиндр оказался на своём месте в верхнем шкафу.
По ощущениям Егора прошло около двух часов. Он не чувствовал усталости или голода, не хотел спать; несильно, ватно болел затылок. Все остальные ощущения, передвижения и обновления, приобретаемые в лаборатории, терялись, как только он вспоминал Лизу и всё начиналось сначала.
Календарь упорно показывал двадцать девятое. Егор перелистывал, отрывал, зачёркивал январскую станицу, и календарь послушно нырял в февраль — но только до очередного завершения петли. За окнами, за дверью, за стеной не было ни движения, ни звука. Ежов не мог отсчитать времени ни внутри, ни снаружи; щетина не отрастала, пиджак не мялся, любые пятна, прорехи, царапины стирала неумолимая петля.
Спустя множество бесплотных кругов — пробуждение-лаборатория-Лиза-тьма-пробуждение — Егор отважился выйти в дверь. Антрацитовая беззвёздная мгла окатила кипятком, он словно ступил в лужу, в которой прятались оголённые провода, — но длилось это едва ли секунду. В следующий миг он нашёл себя целёхоньким в исходной точке. Провёл подстриженными ногтями по половицам, поднялся и принялся за ревизию шкафов.
Одержимый мыслями о том, как разорвать вакуум, Егор не заметил, как календарь сам сдвинул квадратную рамку на тридцатое. Когда заметил — вспомнил: сегодня помолвка Лизы и Коршуна. И всё опять сбросилось на ноль.
С первым проблеском сознания Ежов усилием воли заставил себя не думать о Лизе совсем. В голове закрутился кипящий вихрь; если не думать о ней было непривычно, сложно и почти физически тяжело, — не думать о Коршанском оказалось выше сил. Мысль о том, что он с холодной головой сунул под кровать сопернику смерть, торчала в черепе занозой, ледяной серебряной иглой.
И всё-таки, через неделю мучительного контроля над мыслями (красная рамка плавно переехала на февраль) Егору удалось выйти из лаборатории — мгла разошлась, явив знакомый, затёртый подошвами линолеум коридора. Ежов добрался до самого крыльца, прежде чем запретное видение — на этот раз в красном платье, в котором она была на выпуске, — всё-таки вспыхнуло перед глазами и вернуло его в лабораторию.
Вновь очутившись на холодном и пыльном, пропахшем смолой полу, Егор глухо попросил у небытия: пусть Коршанского увезут из дома; путь отправят в больницу, переместят к родне, пусть хотя бы переложат в другую комнату — лишь бы подальше от бруска, от левой половины кровати… И почему он не догадался просто посоветовать ей это — перевести в городскую клинику, переложить в кабинет?..
Чуть позже, вынырнув из сожалений, Егор понял, что за болезненным, злым раскаянием, угрызениями, страхом, ненавистью к самому себе он почти не думал о Лизе. Ледяная игла стыда, бывшая страшным мучением, стала спасительным открытием.
Через некоторое время упражнения привели к тому, что тьма за окнами поредела, и на краю сознания, по обочинам двора и в дальних аллеях сада Ежов стал замечать фигуры профессоров и гимназистов. Однажды, когда красная рамочка календаря миновала март, Егору удалось пересечь коридор, выйти в сад и — сверх ожиданий! — приблизиться к Якобцеву, самому болтливому языку восьмого класса. Позже Ежов ещё несколько раз встречал учеников, но больше не узнавал лиц. Впервые поймав себя на том, что хочет есть, он навестил буфет и разыскал сырую морковь и хлеб. В запылённых, но всё ещё зеркальных подносах заметил, что у него отросли волосы.
Дни, а может, и годы, тянулись — апатичные, похожие один на другой, словно спрессованные, перемолотые и выплюнутые Сжимкой.
...Когда обрюзгшему, взвинченному Ежову открылась дорога домой — широкая, запруженная снегом, с тенями извозчиков и громадами бричек, — он долго не мог ступить на мостовую: боялся, что вспомнит запретное и сбросит на ноль с таким трудом прожитый отрезок. Судя по грузности, одышке, лоснящимся рукавам, он прожил немало. Сколько?.. Время только-только обрело подобие порядка; ещё чуть-чуть, и, может быть, он сможет порвать этот вакуум, и тогда… тогда непременно узнает, что случилось с Коршуном. Услышит, как живётеся его вдове. Увидит красное, опухшее лицо Ли… ли… нет, нет, не пускать, не отпускать! Нет… нет!
В голове звенело; он чувствовал, что балансирует на грани. Звон нарастал, превращаясь в лязг, грохот, набат… в дверной колокольчик.
Скрипнула дверь. В смежный с лабораторией кабинет вошла дама. Подняла вуаль. Мягко улыбнулась.
— Добрый день! Мне бы Егора Артуровича...
Егор прилип к крохотному окошку в стене, разделяющей лабораторию и кабинет. Он смотрел на гостью, обомлев, не в силах пошевелиться или хотя бы закрыть рот. Видение должно было рассеяться вот-вот — ведь это было прямое воспоминание, наводка в центр, выстрел в яблочко. Но Лиза, невесть откуда взявшаяся в его заключении, оставалась там, по ту сторону стены, — в белой шубе и перчатках до локтя, в пышной тёмной юбке до полу, с выбившимися из-под шляпки локонами — Лиза, похожая на шахматную королеву, постаревшая, похорошевшая, Лиза, Лиза, сколько же на самом деле прошло лет и что ты делаешь здесь, это моя фантазия или явь, и если явь — означает ли это прощение?
— Никак не застать его дома, всё на заседаниях, в командировках… Такому инженеру, конечно, не до наших дел, — смущённо усмехаясь, говорила кому-то она. — И всё-таки я хотела бы с ним посоветоваться — по старой дружбе. Сыну осенью пора в гимназию, а Егор Артурович тут преподаёт давно, всех знает. Ну и… Хотелось узнать, порекомендует ли? Сын сложно сходится со сверстниками, но соображает быстро…
У неё сын. Сам он преподаёт. Разъезды. Командировки… Сколько прошло времени? Пока он был заперт здесь, в этой лаборатории, в другой плоскости продолжалось движение дней — гимназические будни, деревенские вечера, заседания… Он был где-то ключевой фигурой, чего-то достиг, о чём-то думал — но вместе с тем всё это прошло мимо: навсегда упущенная, забранная в наказание за трусость жизнь...
За переносицей вспыхнул горячий, едкий шар. Стремительно отвернувшись, Ежов выбежал из лаборатории, спрыгнул с крыльца, взял первого попавшегося извозчика, отрывисто крикнул:
— В Ирпеньево!
И полетел, покачиваясь, не думая ни о чём. Бричка послушно бежала по колеям, мгла вилась по обочинам, не пытаясь преградить путь, сознание было чисто. Когда Егор выскочил в снег, враз промокли ноги, озябли руки, но он ощутил вдруг огромную свободу. Одышливо, захлёбываясь морозным воздухом, долго плутал вокруг дома, а когда сгустились сумерки, наконец пробрался к её окну.
В залитом светом зале чернела пушистая ёлка — со свечами, с золочёными стеклянными шарами. У стола сидел мужчина; хоть он и был в штатском, по выправке легко угадывался военный. Под ёлкой возился белобрысый мальчик в матроске. Дверь распахнулась, и, внеся с собой уличную свежесть, румяная с холода, в зал вошла женщина. На ходу снимая шляпку, она прижалась к мужу, взъерошила волосы мальчишки, вынула что-то из сумки… Мальчик запрыгал, женщина рассмеялась, мужчина сдержанно улыбнулся, грея в руках её ладони...
У Егора зарябило перед глазами. Это мог бы быть я. Это мог быть я, если бы только отважился подойти к ней… спросить… сказать… У Лизы семья… Коршун жив, это, несомненно, он… А я?
Ежов лишь краем сознания удивлялся, что тьма никак не настигнет — а ведь он думает о Лизе, смотрит на неё, разве что не врывается туда, в золотой свет...
Даже облегчение от мысли, что Коршун не погиб, не перекрыло густой, липкой горечи, вставшей в горле. Егор чувствовал, как по щекам, стекая по морщинам у носа, закатываясь в рот, тут же застывая на холоде, бежит горячее, солёное…
Коршунов жив. Я не убийца. Жив. Жив… И она с ним… и счастлива...
Он захлёбывался раскаянием, облегчением, страхом, томившимся в душе так долго; всё его существо разъедало упущенное счастье, которое было так возможно...
Женщина с той стороны подошла к подёрнутому инеем окну, и слёзы кончились — осталось только душащее, отчаянное сожаление. Сквозь слипшиеся ресницы Егор в последний раз взглянул на тихий вечер в золотой раме. А затем вокруг сомкнулась привычная, ненавистная, милосердная мгла...
Сквозняк прохватил горло, забрался в рукава. Закашлявшись, Егор распахнул глаза. В лаборатории ярко горели лампы, за стеной раздавались шаги, голоса, дрязг неумолчного колокольчика. Сквозь шипение граммофона неслась «Метель».
— Горик! Горик! — звали из коридора.
Он дёрнулся к дверям, в последний миг испугавшись тьмы, но дверь открылась навстречу — и вместо черноты из коридора выглянула Лиза, в тёмно-красном бархатном платье, с уложенными волосами и длинными, переливающимися серьгами.
— Лиза… — проговорил он. Рванул к календарю. Двадцать девятое. — Лиза…
— Горик! Ну что ты копаешься? Сейчас уже начнётся!
— Что? — обмирая от радости и страха обмана, прошептал он.
— Чудачок! Вручение аттестатов, конечно…
— Подождёт, — сипло перебил Егор. — Лиза. Я хочу, чтобы…
Она выжидательно замолчала.
— Я… Лиза. Я уже не юн.
— Да что ты такое...
— Лиза! Я сделал много ошибок. Я… у меня не хватало храбрости… никак не мог… Ты не представляешь, что я сделал, как, когда...
— Да что с тобой, Горик?
— Егор! Егор Ежов, на вручение!
— Где Ежов? Директор просит!
Крики из коридора настигали. После снежного, глухого безвременья от звуков, запахов, шума у Егора кружилась голова. Всё плыло — только Лиза виделась чётко, в том золотом ореоле, что и летом, их душистым летом тысячу лет назад...
— Ежова потеряли! Посмотрите в саду кто-нибудь!
— Ну, Горик! Решайся быстрей! Пора!
— Лиза! Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты стала моей женой!
Больше интересных статей здесь: История.
Источник статьи: Лизавета. Петля.