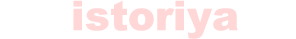Я хоть и горожанин, но никогда не сомневался в своей способности хорошо ориентироваться в лесу, а тут заблудился. Дачный домик приобрёл в Ольховке всего три дня назад, пленила тихая деревня, да и лес вокруг – чудо как хорош. Светлый, приветливый. Берёзы стройные, опрятные, даже ели какие-то особенные – с лапами пушисто-раскидистыми и вольными. И не углублялся вроде бы в новые для меня просторы. Как можно заблудиться?
Ведро полное крепких опят приятно тяжелит руку, солнце высокое, не по-осеннему тёплое – почти бабье лето вокруг. Пичужки щебечут. Шагаю широко уверенно, но чую, что не туда. Трава под ногами редкая, сухая, двигаться легко, но от крепчающей уверенности, что заблудился, коленки деревенеют, и в горле пересыхает. Иду ещё быстрее, грибы верхние из ведра сыплются, не останавливаюсь – плевать уже на грибы.
– Ох ты, наконец-то! – выдыхаю с радостным облегчением, потому как вышел на большую прогалину, посреди которой стоит посеревший, но ещё ладный деревянный дом. Кажется, он при пасеке, – вон из-за торца несколько ульев виднеется.
Вспотел от быстрого шага, пить ужасно хочется. Смело иду к дому, ну, в нём просто обязан хоть кто-нибудь жить.
Заборов нет, площадка перед крыльцом изрядно заросшая, но тропочки вытоптанные разбегаются кривыми лучами в разные стороны.
– Хозяева есть? – кричу, ступив на пятачок перед домом.
– А как же, – из-за угла со стороны ульев выходит невысокая ладная женщина средних лет, в простом мелко-цветастом деревенском платье под рабочей курткой и в белой косынке на голове. Выражение лица озабоченное, взгляд острый. Вроде и улыбнулась слегка, но смотрит настороженно. Оценивает.
– Я из Ольховки, – спешу успокоить хозяйку. – За грибами ходил, да заплутал малость, – не без гордости качнул ведром, полным ровных опят. – Мне бы напиться да на дорогу правильную выйти.
– Так на, пей, у меня квасок добрый, – голос на слух мягкий, приятный. – Вылить хотела, надо новый ставить, а ещё вчерашний остался.
Я только теперь заметил в руках женщины прозрачную банку с жидкостью хлебного цвета.
– Пей прямо из банки, – протянула она мне напиток, – остатки всё равно вылью.
Поставил на землю ведро и принял из рук хозяйки банку. Едва глотнул, как резко хлопнула входная дверь, с высокого крыльца слетела молодая девушка и звонко умоляюще заголосила:
– Не пей, не пей! Ведьмино зелье это!
Разгорячённая красавица подскочила в три прыжка и выбила банку из моих рук. Платье короткое, алое, ноги и руки сильные, загорелые. Я залюбовался и про жажду забыл.
– Уведи меня отсюда. Ты хороший, я вижу. Боюсь я её. Извести меня ведьма хочет. Ты правда из Ольховки?
Девица юркнула мне за спину, вцепилась в куртку, дышит близко и шумно, а ещё, кажется, пахнет от неё мёдом и молоком. Банка не разбилась, но содержимое быстро вытекло и она пустая валяется под ногами. Хозяйка, что так радушно предлагала мне квас, зло кривится и смотрит ещё пронзительнее. И я – дурак дураком застыл между двух женщин. Девица хоть и очаровала меня, а про ведьму чудно как-то слышать. Не знаю, что и сказать на это.
– Какое зелье? Почему ведьма?
– Мать моя – ведьма. Меня извести хочет и тебя заодно погубит. Не смотри ей в глаза, зачарует, – сипит просительно мне в ухо девица.
– Уймись, бесова дочь, – хрипло рычит женщина, и куда только приятный голос подевался, – отстань от человека!
– Уйдём отсюда. Бежим! – быстро шепчет девица.
Оборачиваюсь и тону в оливковом взгляде.
– А-а-а, – кричит красотка.
И понеслось. Что, куда сразу и не уловил. Сделалось темно, словно время сместилось, и завечерело мгновенно. Дом исчез, мы бежим как ненормальные. Рука в руке, и ведь не спотыкаемся, хотя лес кругом. Где бежим, куда бежим?
– Стоп, – останавливаюсь и резко дёргаю на себя девицу, поскольку крепко держит и не думает отцепляться. – Ты кто вообще? Как тебя зовут? За нами, что, кто-то гонится?
– Кажется, нет, – моя спутница пугливо озирается по сторонам. – Ух ты! Нам удалось удрать. Меня Катей зовут. Я ведьмина дочь. Ну той, от которой мы сбежали. Спасибо тебе. Мать не ожидала, что ты чарам не поддашься, вот и растерялась немного, а мы успели удрать. Я-то мало чего умею, я обыкновенная, оттого она и ненавидит меня, что не хочу с ней жить, к обычным людям хочу. А Ольховка твоя большая?
– Обычная Ольховка, деревня как деревня.
В вечерних сумерках посреди леса юная Катя выглядит ещё ярче. Каштановые кудри распушились от бега, оливково-зелёные глаза лучисто и мягко блестят. Интересно, знает ли она, как красива? Замечаю, что слегка дрожит. Скидываю куртку, заставляю надеть.
– Велика тебе и старенькая, зато согреет.
Катя благодарно заглядывает в глаза.
– Сам не замёрзнешь?
– У меня свитер толстенный, – даже обидно от её заботы.
– Ай, – взвизгнула Катя. – Бежим!
Вцепилась за край рукава и потащила, а я послушно подорвался, опять не понимая – куда бежим и зачем? Только на этот раз опомнился быстрее, уже через минуту мне чувствовать себя глупым зайцем надоело, и я стал притормаживать. Катя словно поняла, остановилась. Прислонилась к стволу ближайшей берёзы, глазами ясными сверкает.
– Ты что, змеюку не видел? – дышит тяжело, шумно, видно, даже для её сильных ножек взяла слишком быстрый темп. – Между нами в траве гадюка ползла. Обычно змеи осторожные, эту точно мамка заслала. Тебя как зовут?
К быстрым перескокам Кати с одной темы на другую я начал привыкать.
– Костя меня зовут. Константин.
– Костя, – «Константина» она проигнорировала, – поверь, пожалуйста, надо бежать. Ещё хоть немного, – протянула тоненько, снова умоляюще. – Хоть до края леса, до болота, там её владения закончатся. Там всё обыкновенное начнётся и лес, и твари будут настоящие, не заколдованные.
– Ладно, – согласился, – бежим, гадюки мне тоже не нравятся. Только давай в нормальном темпе, без надрыва.
– Ага, – обрадовалась Катя и припустила в неизвестном мне направлении.
За руку не взяла, я даже огорчился. И движется и выглядит уже много спокойнее. А вот в моей голове запоздало рождаются тревожные и верные вопросы. Ведьма её мать или не ведьма? Какие могут быть ведьмы в наше время? Извести хочет, или девочке это только кажется? Что вообще значит – извести? И сколько Катерине лет? Стоп... это, пожалуй, наиважнейший вопрос. Я, конечно, не маньяк. Вдвое, как минимум, старше девицы, так что хоть и залюбовался, но ни о чём таком запретном не помечтал. Только поди потом, объясни людям, если она вдруг несовершеннолетней окажется.
Бегу, пыхчу. Елки-моталки, скоро уже это болото покажется?
– Ура, – задорно выкрикивает Катя, – почти вырвались.
Выскакиваю следом на край леса. Она приваливается к ближайшей толстой коряге. Откидывает с глаз вконец спутавшиеся волосы. Моя куртка на ней висит небрежно, не застёгнута и бесформенным мешком съезжает набок, открывая вечерней осенней прохладе голую шею и левое плечо в алом тонком платье.
– Мы сюда бежали? Можно отдышаться? Сколько тебе лет? – леплю вопросы невпопад, беря пример с Кати.
– Да, наверно, – рассеянно отвечает она. – Несколько минут у нас есть. Восемнадцать мне.
При последних словах девичьи губы как-то подозрительно поджались, но сомневаться вслух и переспрашивать я не стал.
Оглянулся. Лес дыбился за спиной непроглядной мрачной стеной, а тут хоть и сумеречно, но ещё можно что-то разглядеть. Надолго ли? По осени темнеет быстро.
– Идём вдоль болота? – кивнул я вправо, предполагая, что нам нужно туда. – И куда выйдем?
– К деревне выйдем, к Реженке. Только идти надо через болото, в обход очень далеко.
– С ума сошла? – не сдержался я. – Какое болото? Через полчаса ничего не видно будет. И застудимся.
– А нам больше и не надо. Не бойся, болото не топкое и мелкое совсем. И даже тёплое ещё – бабье лето же. Снимай обувь, закатывай штаны.
Она первая скинула туфли и шагнула в мутную мокроту. Вот что мне оставалось делать? Быстро снял кроссовки, кое-как подогнул джинсы и пошёл за Катериной, искренне надеясь, что проводница из неё хорошая.
Болотце будто обрадовалось нам, смачно чмокнуло под ногами, и оказалось на удивление тёплым.
– Катя, а ты уверена, что мать тебя извести хочет? Мать ведь. И что значит – извести? Может, ты сама в чём перед ней провинилась, я же не знаю ничего?
Я решаю, что самое время обо всём выспросить. Мы движемся медленно, утопая по щиколотку в болотной каше, проталкиваем сквозь неё ноги, как точно ложками размешиваем. Вокруг редкие кочки, поросшие низкой незнакомой мне травой, ещё реже торчат сухие коряги. Дно под «кашей» и правда твёрдое. Ощущения такое неспешное вымешивание жижи вызывает необычные, даже приятные. И не холодно. Очень странно, но болото как будто действительно живёт в ином времени и нет над ним ни осени, ни сентябрьского холода.
– Вы чего там, в Ольховке, вообще ничего не знаете? Ты ни от кого не слышал, что моя мать ведьма? Ну, хочешь – верь, не хочешь – не верь.
Катя отвечает с детской обидой в голосе. Но её досада кажется мне наигранной. Вообще, девушка выглядит теперь совершенно спокойной. Она идёт впереди всего в двух шагах и не оглядывается, знает, видимо, что не отстану. И правильно, не отстану – вокруг болото всё-таки.
– Ты уверена, что хорошо дорогу знаешь? Темнеет быстро.
– Знаю, знаю. Минут через пятнадцать выйдем из болота, а там Реженка, а за ней и твоя Ольховка.
– А у тебя в Ольховке ещё знакомые есть кроме меня, или родня?
– Ха, родня... – Катя хохотнула и одинокое звонкое эхо резво разлетелось над болотом. – Была бы родня, я бы давно от мамки сбежала. Ты совсем дремучий? Не бывает у ведьмы родни. Угораздило меня родиться ведьминой дочкой. Ты ведь меня пустишь переночевать?
Она остановилась, но лишь на мгновение и снова не оглянулась. Я почувствовал её неловкость и поспешно ответил:
– Переночевать пущу, но ведь это не выход. Что дальше-то будем делать?
И вдруг что-то дёрнулось перед глазами, а я опять ничего не успел понять. Словно занавес в театре раздвинулся, и место действия поменялось. Вот только как-то слишком быстро разъехался, с неуловимой, прямо скажем, скоростью. Вокруг то же самое болото, но время снова сместилось. Стало прохладнее и намного темнее – то самое гадкое время суток, когда уже почти ничего не видно, и счёт идёт не на минуты даже, а на секунды – вот-вот накроет ночь.
А прямо передо мной близко-близко стоит Катя. Высокая, глаза почти вровень с моими.
«Что за хрень», – тужусь сообразить я. – «Я так быстро к ней подошёл, или она вернулась? Я, что, заснул на ходу?»
– Что с тобой? – голос у Кати тихий и тревожный. – Устал? Уже почти дошли.
Девочка крепко держит меня за голую руку чуть ниже локтя. Рукав свитера для чего-то задран. Её пальцы сдавливают словно маленькие тиски. Но меня озадачивает не эта странная хватка и не тревожный голосок. Меня холодит от её близкого взгляда. Он вроде бы искренне взволнованный, но в то же время слишком бездонный и мерцающий-гладкий, подобен поверхности глубокого озера в ночи. Однажды я видел похожую манящую красоту с высоты, так и хочется в неё сигануть. И темнота взгляду не помеха, только мягкая зелень оливок куда-то делась, цвет глаз теперь тёмно-бурый, как орешки ольховые.
– Ну, идём же, – тянет нетерпеливо Катя.
– Пусти, – отчего-то грубо стряхиваю её руку я. – Всё нормально. Шагай вперёд.
Катя обиженно поджимает губки, но молча разворачивается и идёт. Какое-то нелепое недоумение овладевает мной. Стою, выжидаю непонятно чего, пока её силуэт не начинает расплываться в темноте. Потом подрываюсь и едва не бегу. Досадую запоздало – на неё ли, на себя ли. Плетусь за девицей, как последний баран. Но что теперь делать-то, в ночи, посреди болота?
– У-а, – вдруг тонко вскрикивает Катя и проваливается в трясину сразу по пояс.
– Да ты... да что за... – притормаживаю, начинаю осторожно прощупывать ногами дно, но всё же продвигаюсь к ней.
Катя умудряется вывернуться ко мне лицом, но её засасывает ещё глубже.
«Не шевелись», – хочу крикнуть я, но вместо слов горлом идёт какое-то рычание:
– Ны-а-а, н-ны...
По затылку изморозь гуляет. И меня снова пугает её изменившийся взгляд.
– Помоги, помоги, – молит Катя.
А я застреваю студнем. И душой рад бы рвануть на призыв, да глубинное чутьё скручивает страхом и держит на месте.
Девушка по грудь в болотной жиже. Уже бы и лицо её в ночи потерял, но оно почему-то из загорелого превратилось в белое фарфоровое пятно и едва ли не светится в темноте. Глаза на нём теперь просто огромные. Распахнутые в зовущей тоске, вот только взор совсем чёрный, как болотная ночная хлябь.
– Помоги, помоги, – скулит Катя и руки ко мне тянет.
– Да что же это, – с меня словно слетает забытьё, – хоть бы корягу какую, – лихорадочно озираюсь по сторонам. Но не видно коряг, вообще дальше двух метров ничего не видно. И самого меня по густой жиже мотает, засасывает. Вроде по колено только вязну, а того гляди упаду.
Вдруг, смачно хлюпая по грязи, на границе видимости возникает Катина мать. В руках длинная добрая коряга. Тычет ей в меня.
– Хватайся и назад отступай. Хватайся, говорю!
– Катю, Катю спасайте, – верещу я, но в горле снова клинит, захрипел и заткнулся, что толку рычать вместо слов.
– Не пускай её, не пускай, – писклявым не своим голосом причитает Катя.
Но я ничего не успеваю сделать. Её мать сноровисто бочком огибает меня, и как шарахнет родную дочь по темечку корягой.
– М-мы-а... – мычу я и, не думая о собственной безопасности, бросаюсь к Кате. Даже ночь перед глазами вроде просветляется на мгновение. Да только опаздываю. В мутной белёсой дымке передо мной проваливается Катино фарфоровое лицо в болото. Будто и неживое уже, без эмоций, крепко сомкнуты губы, одни глаза горят зовущей бездной. Большущие. Мгновение, и они исчезают в болотной черноте.
– М-мы-а... – продирается горлом бессилие.
А ноги проваливаются, меня тоже тянет в пучину, туда, где Катины глаза. Но вдруг что-то снова меняется. Что-то опять со временем неладное творится, или со мной. Швыряет из стороны в сторону, будто кто за шкирку, как котёнка, трясёт. Без конца моргаю, глаза слезятся, их щиплет, словно песку насыпали. Ничего не вижу, мрак. Потом что-то мелькает, потом снова ничего не вижу. Пропадаю я или время? Очнулся. Затылок ломит. Что, Катина мать и по мне корягой прошлась? И звон какой-то железный в ушах стоит, ударяет резко, болезненно, так было в детстве, когда я впервые близко услышал бой церковного колокола. Но самое скверное происходит, если наваливается чернота. Тогда передо мной всплывает и всё заслоняет собой ужасный, мёртвый и острый, как нож, Катин взгляд, всё тонущий и тонущий в болотной трясине. Я противлюсь ему, не знаю чем, но сопротивляюсь. Невероятно, но от моих усилий немного проясняется, хотя легче не становится, потому что тоже очень близко и не менее страшно возникает Катина мать.
– И не переживай, живучая она, – вклинивается в эхо железного звона её, на удивление, спокойный голос. – Поплавает малость и явится, стерва. Там дальше не болото, там озеро небольшое, её любимое. Утянула бы и тебя. Крепчает ведьма, забавы хитрее выдумывает. Повезло тебе, что я за ней ещё поспеваю.
Сжимаю губы, чувствую, что готов завыть как собака. Наконец, когда глаза перестали нервно моргать, промылись слезой, в очередной отрезок просветления осознаю, что сижу в траве перед тем же домом, от которого с Катей бежали. Вокруг сумеречно, но, кажется, уже светает.
Обратите внимание: Недобрый гость.
Удивиться утру не успеваю. Явь снова расплывается, затылок опять наливается болью. Голос хозяйки назойливый, как пчелиный рой, не отстаёт и раздражает, упрямо вторгается в сознание:– Не спи, дурень! На, квасок мой выпей, полегчает. И чего только девка в тебе нашла? Ладно бы кого помоложе из деревенских парней выбрала, а то непутёвый, городской. Ещё и женатый, небось?
Напрягаю зрение, мозг сдавливает сильнейшей болью, зато мутное марево с Катиным зовущим взглядом больше не возвращается, снова вижу обычный мир. Хотя где он, обычный? Катина мать стоит передо мной, как статуя в музее. Как её там? Женщина с веслом. Только не в белом гипсе, а цветная и грязная. Подол платья тяжело отвис, густо пропитанный болотной жижей, липнет к большущего размера резиновым сапогам. Грязь на тёмной куртке не так видна, но её промокшие рукава безобразно сморщились, и с них осыпаются остатки зловонной каши. Даже на щеках женщины бурые кривые мазки червяками. А в руке вместо весла банка с квасом, чистая, блестящая, вроде как та же самая, что была в первый раз.
– М-мы-а... – в ужасе подаю голос я.
Вскакиваю. То есть в раскачку, еле-еле, неповоротливым медведем поднимаюсь на ноги.
Статуя оживает. Взгляд наливается злобной решимостью.
– Пей, – скрипит Катина мать. – Пей, я сказала!
И я глотаю её мерзостный квас в полной уверенности, что пью отраву, но ничего не могу с собой поделать. Руки не слушаются, сами банку взяли, язык и тот, как вмороженный. Огромными глотками пью.
– Вед-ма, вед-ма, – пробухтел, едва оторвал ото рта банку.
И бросить квас почему-то не могу, медленно опускаю в траву под ноги. Дрожат и руки, и всё тело, но упорно бубню:
– Вед-ма, вед-ма.
Подбородок мокрый от натёкшего кваса, и его гадко холодит ветерком. Кисло-сладкий привкус вяжет и без того непослушный язык.
– А ну, пошёл отсюда! – взревела ведьма. Побагровела, злые глазищи того гляди и выскочат из орбит.
Я и ломанулся прочь, с какой только смог скоростью. Ноги ватные ковыляют кривыми корягами, в глазах слезливость – мутно всё ещё передо мной, но упрямо удираю. Отпустила, проклятая, отпустила, – стучится нервно-радостное в мозгу.
И чудо: пространство ли, время ли, или и то, и другое снова сдвинулось, только на этот раз в угоду мне – сделалось совсем светло, и, главное, передо мной возникла лесная дорога. В глазах всё ещё замутнено, но точно – дорога. Поспешаю изо всех сил по ней – направление не выбирал, бреду туда, куда ноги несут. Да и какая мне разница, дорога же – значит, куда-нибудь выведет, лишь бы к людям.
Навалилась усталость, но голова меньше стала болеть и мир кое-как прояснился. Только всё равно вздрогнул от неожиданности, когда со мной поравнялась телега. Лошадка? Мужики? Странно, лошадей ещё впрягают? В Ольховке уже давно нет.
– Тпру-у, – командует бородатый мужик-возница вороному жеребцу. – Садись, – а это уже мне.
В глазах, очень кстати, совсем просветлело, но взбираюсь на телегу молча. Язык ещё ватный, боюсь, что за пьяного примут.
– Чего тебя колбасит-то так? – подозрительно щурится второй мужик: помоложе возницы, моих, наверно, лет, и такой же, вероятно, пассажир. – Болеешь?
Мелковатый мужичок, худой, а взгляд острый, как у большинства деревенских. Одет почти как я: джинсы, кроссовки, куртка. Только последняя поновее и почище моей, потерянной, будет.
– Заплутал я, – слова вырвались четкие, и от души отлегло. Неужели от чар ведьминых избавляюсь?
– Так, давай, рассказывай – кто ты, откуда и что с тобой приключилось. До Реженки нам полчаса на нашем резвом старичке пилить, верно, Михалыч?
– Какой он тебе старик, крепкий ещё Гунька, но гнать не стану, это верно, – незлобливо огрызнулся возница: коренастый, осанистый и неразговорчивый бородач, сразу видно – мужик солидный и уважаемый.
– Константин меня зовут, – представился коротко. И тут меня понесло. Видно, я так обрадовался, что снова могу нормально говорить, что ковылять не надо – подо мной трескучая пахнущая сырым сеном телега, – что дорога с нормальным лесом вокруг, что вместо ведьмы с её глазастой дочкой настоящие мужики рядом. Даже Гуньку – коняку чернявого, время от времени недовольно всхрапывающего, – расцеловать готов. Ну, и вывалил я на мужиков всю историю, что со мной приключилась, как есть.
– Ого, – радостно засиял, как только я закончил рассказ, агроном Кириллов из Реженки, так он представился. – Так говоришь, что ты только три дня, как Ольховский? Домик в деревне купил? Ну, да, бывает, что и горожан к нам заносит – места-то красивые, можно сказать, заповедные. И хорошо, что купил, и семью следующим летом привози. И понятно теперь, почему расколбасило тебя нешуточно с тёткиного кваска – слабые вы от городской жизни против нас, деревенских. А захаживал ты, судя по всему, к Ореховой Татьяне Ивановне, к пасечнице. Отшельницей живёт, но никакая она не ведьма. И мёд у неё знатный, и квасок, и ещё кое-что, – агроном доверительно мне подмигнул. – Точно один квасок пил? Но с дочкой ты перегнул. Нет, брат, у Ивановны никакой дочки. Одна она живёт, все знают, что одна.
– Да как же? Если я... я же сам видел?! – мне теперь умилительно-простодушная рожа Реженского агронома очень даже подозрительной кажется. Нету дочки. Ага, нету. Издевается надо мной? По-нахальному, по-деревенски насмехается?
– Тпру-у, – остановил коня бородач и обернулся к нам насупленный. Из-под густых бровей зыркнул недобро на агронома. – Давай, Кириллов, дуй в свою Реженку, бабы твои, небось, уже заждались. Болтун. Кхэ-хэ-хэ, – то ли засмеялся, то ли заскрипел угрюмо и басисто, что прозвучало инородно и не к месту в тихом утреннем лесу.
Агроном Кириллов с возницей спорить не стал, легко спрыгнул с телеги, согласно махнул рукой.
– Ладно, спасибо, Михалыч. Ты, Константин, будешь в Реженке, заглядывай ко мне, не стесняйся. А дочки у Ивановны нету, точно говорю, нету.
Отворачивается агроном и размашисто шагает прочь, обогнув указатель на Реженку. По всему видно – парню хорошо и весело. Птички поют, погода с утра прекрасная, и в деревне, наверно, Кириллова кто-то по-доброму ждёт. А у меня от его самодовольного «нету дочки» снова стучит болью в голове.
– До Ольховки далеко? – спрашиваю у бородача, как только тронулись.
– Не боись, рядом твоя Ольховка, – Михалыч цокает на Гуньку, чтобы тот порезвее шёл. – Я тебя, парень, до самой деревни довезу, мне как раз в крайний дом к Степановым кое-что завезти надо.
– Хорошо, – радуюсь я, поскольку до сих пор плохо представляю, где моя Ольховка находится.
– А Кириллов брехун и не знает толком ничего, – неожиданно продолжает возница. – Татьяна-то Орехова, конечно, не ведьма, а вот дочка ейная...
Михалыч начал оборачиваться ко мне, но остановился, словно передумал смотреть, бородой только тряхнул и снова отвернулся. Заговорил тихо монотонно, но так доверительно, что я весь обратился в слух.
– Татьяна молодкой совсем была, когда в беду попала. Когда-то она, как ты, в лесу заблудилась. Кириллов, может, эту историю и не слышал, а я помню. Три дня девки дома не было. И искать не сразу начали, она при тётке сиротой выросла, на второй день только спохватились. Полиции у нас своей нет, и тогда не было. Пошарили деревенской толпой по ближнему лесу, но девку не нашли. А к вечеру третьего дня Татьяна сама вышла. Да шальная такая, исцарапанная, в одежде рваной. Мычит что-то непонятное и ревёт. Только тётка на неё пялиться долго никому не позволила. Увела, в баньке отмыла и в доме спрятала.
Михалыч умолк. Спина в поношенной телогрейке горбится. Телега скрипит, конь копытами шершаво и смачно по лесной дороге цокает. Берёзы да ели по обочинам тихо и скромно проплывают, и я нарушить молчание боюсь, жду, когда Михалыч сам продолжит. Так он и не заставляет себя уговаривать.
– Н-но, – лениво подстёгивает Гуньку и продолжает рассказ. – А мы что, деревня посудачила бы пару дней да забыла. Но к зиме у Татьяны пузо приметно вспучилось. Тётка, знамо дело, взбесилась. Бабам Ольховским тоже надо немедленно уяснить – что да как. А у Татьяны характер – фыркнула на всех и на старую отцовскую пасеку сбежала. Ну, на ту самую, где ты побывал. Места эти и до того лихими считались, нормальные люди к заброшенному дому не шастали, там своя история. А как Татьяна поселилась, так вообще, пакостное случаться стало. То скотина забредёт и на рядошном болоте сгинет, а то и человек еле вырвется, вот как ты сегодня. Словно Татьяну с приплодом сила какая нечистая охраняет. Но, мало-помалу, до людей правда дошла – родила Татьяна на пасеке дочку. Ведьму родила. И живёт до сих пор там, чтобы ведьму в руках держать. Можно сказать, нас, людей, от нечисти спасает. Так что вовсе не Татьяна ведьма, а дочка ейная.
Михалыч рассказ ведёт ровно, спокойно, а у меня на затылке волосы шевелятся.
– А я думал, квас... – нелепо вклиниваюсь я.
– А что квас? Квас у Татьяны добрый. Пил? И хорошо, что пил. – А что это у тебя на руке? Кровь? Тпру-у-у, – Михалыч осаживает коня и разворачивается ко мне всем корпусом. – Так ведьмочка тебе и кровь пустила?!
Смотрю, действительно из-под рукава свитера по запястью тонкая ниточка крови тянется. Задрал рукав, вижу, старая ранка на предплечье кровит. Странно, думаю, не должно быть крови, поранился ещё позавчера в ближнем лесу, когда впервые оглядеться вышел. Дом-то у меня крайний на улице. Ещё сразу вспомнилась странная хватка Екатерины, там, на болоте. Аккурат на этом месте руку сжимала. Но не было же крови? Вроде не было?
А Михалыч странный какой-то. Лицо посерело и скорбно вытянулось, как на похоронах.
– Ну всё, – тихим скрипом выдал он, – кровь не вода, тикать тебе, парень, надо. Продавай дом, не отстанет теперь ведьма от тебя.
Вдруг лицо Михалыча и вовсе неузнаваемо перекашивает.
– Не-ет, – пискляво с хрипотцой протягивает он. – Я передумал, я тебя в Ольховку не завезу.
Его правая щека конвульсивно дёрнулась, верхняя губа косо вздыбилась, а глаза... глаза пялятся на меня жутким вовсе не Михалыча, а Кати-утопленницы взглядом.
Я с телеги соскочил, пячусь.
– Ты чего, Михалыч, чего? – голос свой тоже не узнаю, тонкий он и чужой.
Жгучий взгляд возницы прицепился к кровавому следу на моём запястье, и лицо его опять переменилось. Помрачнело, насупилось, собирая глубокие морщины. Михалыч гортанно заклокотал и вдруг смачно цокнул мне как коню, а потом зарычал уже не Катиным, а её матери голосом:
– Пошёл вон, тебе говорю! Вон пошёл!
На его побагровевшей шее вспучились вены, лицо напряглось, борода мелко дрожит, а взгляд и вовсе не человечий, осатанел.
Я побежал. Развернулся и припустил так, как никогда ещё не бегал. И знаю каким-то чудом, куда бежать. Затылок вымораживает от страха, уши горят. Чудится, что чёртов Гунька нагоняет, бьют копыта за спиной, и будто шумно кто-то – то ли ведьма, то ли Михалыч, – дышит громче коня и мчится следом, но не оглядываюсь, несусь во всю прыть к Ольховке. Овражек, что перед деревней, пересекаю в олимпийском темпе. Первые дома, первая улица. Пыхчу, дышу со скрипом, как старый ржавый паровоз, но бегу. «Люди где?» – стучит в голове. – «Где люди?» – будто обычные люди от нечисти защитить могут.
Наконец выскакиваю на центральную улицу, возле магазина. Уф, – приходит облегчение. У входа две тётки судачат. А напротив по дороге мой сосед подгребает. Лукьяненко Андрей, по отчеству Романович, кажется. Тетки при виде меня умолкают, их лица разглаживаются в одинаково-нескрываемом любопытстве. Лукьяненко приближается и тоже вопросительно приподнимает бровь.
– Ты откуда такой шальной, сосед?
– Потом, Андрей Романыч, потом, – попыхиваю я, но останавливаюсь и приветственно руку соседу жму. Сердце бешено колотится, и говорить трудно, но спрашиваю:
– Ты Михалыча знаешь? Ну, того, что на лошади мимо ездит, у него ещё конь чёрный – Гунька. Знаешь такого?
– Какой Михалыч? Какие кони? Машины давно у всех. Ну, у Потапова на крайней улице мотоцикл есть. «Урал» с коляской, в приличном, между прочим, состоянии. Так и он нынче, вроде, не выезжал. Ты откуда свалился, сосед?
Лукьяненко придвигается совсем близко и шумно втягивает ноздрями воздух, словно проверяет на запашок.
– Ты где был-то?
– А агронома Кириллова из Реженки знаешь? – игнорирую я вопрос.
– Да окстись, сосед, какой Кириллов? Реженка – лесная дыра в две улицы, нет там никаких агрономов, одни старухи там остались. Где ты был вообще?!
– Потом, Андрей, потом, – неловко, но мне и на неловкость эту наплевать, и на Андрея. Затылок и от собственных вопросов, и от соседовых ответов ломит.
Озираюсь, не перестаёт мне чудиться ведьмин взгляд за спиной или чего ещё похуже. Выгляжу перед народом, наверно, паршиво, потому как и тётки всё ещё молча на меня пялятся, и Лукьяненко уже недобро смотрит.
– Потом, Андрей, потом объясню.
Махнул рукой и спешу домой. Хотя приструниваю себя, чтобы снова не побежать. А может, и надо бежать, может, и плевать, чего там люди подумают. Но сдерживаюсь, не бегу. Какая-то внутренняя пружина сжимает, удерживает на остатках упрямства.
Дом – вот и мой недавно приобретённый дом. Как я радовался ему, как улыбался прошлым утром, прощаясь, когда уходил по грибы. Теперь мне безразличен и дом, и все грибы в округе. Собрался за минуты – документы, деньги. Покидал в рюкзак то немногое из вещей, что быстро вспомнилось. На часах десять утра, электричка в одиннадцать – успеваю.
Повезло. И касса на деревенском вокзале работает, и поезд вовремя пришёл. Каких-то полчаса ожидания, и он уносит меня прочь, в сторону родного города. И вагон как вагон, уютный даже. Пахнет в нём жжёной пластмассой и табаком, но это ничего, это свойские запахи, городские. И народ обычный, никаких тебе Михалычей и ехидных несуществующих агрономов. Наискосок примостилась семейка с плаксивым малышом. Ничего – на то он и ребёнок, чтобы гундосить.
Минут через двадцать боль в голове притупляется. За окном унылая, но обыкновенная ранняя осень. Берёзы с жёлтой проседью, а клёны ещё зелёные стоят. Подростки какие-то невзрачные туда-сюда по вагону шастают. Подхихикивают и похрюкивают непонятно над чем – нормальные подростки. Так что ещё через каких-нибудь полчаса я чувствую себя уже совсем комфортно, даже спать хочется. Но нельзя, скоро моя остановка.
Схожу на знакомой станции. Почти с наслаждением втягиваю вокзальный воздух. Все прочие ароматы перекрывает весьма аппетитный из-под козырька пирожковой. Беру пару чебуреков и решаю зайти на вокзал. Всё-таки зря я так, сломя голову, из Ольховки драпал. Надо было хотя бы Лукьяненко сказать, что дом продавать буду. Он ведь говорил, до дома и другие охочие покупатели, кроме меня находились. Говорил, что я дёшево купил да вовремя. Так что, наверно, не трудно будет продать.
– Ольховка, Ольховка, – бубню себе под нос, как старый дед, бороздя взглядом вокзальное расписание. – Где Ольховка?
Рядом окошко справочной, у которого никого нет.
– Девушка, а до Ольховки поезда каждый день ходят?
– До Ольховки?
– Да.
– У нас нет такой станции.
– Как это нет?! Я же только что оттуда?
– Мужчина, – девушка смотрит строго в свой монитор: что ей я, у неё всегда есть поважнее работа. Говорит уныло и слегка раздражённо. – Читайте внимательно. В нашем расписании движения поездов станции Ольховка нет.
– К-как... нет...
Автор: Ирина Домнина
Источник: http://litclubbs.ru/writers/1991-dobryi-kvasok.html
Публикуйте свое творчество на сайте Бумажного слона. Самые лучшие публикации попадают на этот канал.
#байка #юмор #мистика #ведьмы #квас #нечистая сила
Больше интересных статей здесь: Мистика.
Источник статьи: Добрый квасок.