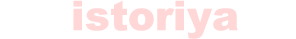Рассказ недели
Если ты хочешь изменить мир – измени своё отношение к нему.
“Паровозик” из сцепленных открытых кувезов, в просторечии отделения называемых “корытами”, всем своим многочленистым телом погромыхивая на стыках мозаичного пола, неторопливо катился по коридору роддома. Пожилая санитарка время от времени останавливала его у дверей очередной палаты и, подхватив пару спеленатых младенцев, на минуту исчезала в ее утробе. Как ни странно, но она как будто и не замечала суетливого молодого человека, который все это время семенил рядом с тележками и пристально вглядывался в сморщенные мордашки новорожденных.
– Лукер, а какие мои? Может, эти? – во время очередного исчезновения санитарки обратился он к старику, сидящему в самом конце коридора на колченогом канцелярском стуле, и ткнул пальцем в сторону приглянувшейся ему пары посапывающих малышей.
Старик вздохнул, с нескрываемым выражением сожаления на лице оторвавшись от чтения своей огромной газеты, затем повернул совершенно седую голову в сторону суетящегося у тележек парня, и медленно, чуть покряхтывая, встал. Неторопливо сложил в несколько раз газетный лист, со второй попытки засунул его в боковой карман пиджака и, только после этого, двинулся в сторону каталки с детьми.
– Не чувствуешь, да? Ничего, малыш, это придет со временем. Ну а времени у нас, хе-хе – бездна, – он усмехнулся и его изрезанное временем лицо помолодело на глазах. – Вот наша парочка. Ты только глянь на нее. А? Милашка… Ох, Кипер, и задаст она ему жару… ну,.. это когда время придет. Да уж, на редкость серьезные мальцы. Ты, парень, того… не торопись с ними. Строптивы оба, просто – жуть как. В общем, пусть они сперва смирению поучатся, ага…
*
Он был глуп. Впрочем, как и все в его возрасте. Хотя все кругом считали его вполне даже умным, а вдобавок еще и красивым мальчиком. Он и сам так считал, или, если точнее, не вступал в конфликт со всеобщим заблуждением, принимая его как должное, за вполне чистую монету. Что, впрочем, окончательно подтверждает его глупость. Но как-то, много-много позже, он увидел дружеский шарж на себя, нарисованный уличным художником. И это стало для него шоком…
У него было много подобных «шоков» в жизни. И каждый раз реальность оказывалась совсем не такой, какую он привык рисовать в своей полупустой голове. Нет, она, голова, вовсе не создавала впечатления пустой – наоборот, всем казалось, что там можно найти очень даже много чего. Но, как оказалось, в основном – разнообразной чепухи и дремучей глупости.
Например, он верил в добро и справедливость. Да, а еще – в счастливое будущее. При том – искренне, так что даже считал это само собой разумеющимся, ну – истинным порядком вещей. А если что-то не совпадало с таким порядком, то это, по его мнению, было лишь временным незначительным отклонением, исправив которое все вокруг снова двинется в светлую даль!.. Ну и тому подобное, в том же духе. Наверное, это была наивность? Может быть даже граничащая с идиотизмом?..
Боже, как же ему было стыдно потом, когда он случайно вспоминал эпизоды из этой своей удивительной юности. Именно «удивительной». Потому как никак иначе это было нельзя и назвать. Нет, она не была удивительна событиями, но, тем не менее, протекала как сюжет какой-нибудь читанной со средины книжки или, там, будто бы ты опоздал к началу фильма и с интересом пытаешься домыслить пропущенное…
Нет, конечно, он как и все покуривал со сверстниками в подъездах, он выпивал вина не меньше остальных (а может быть и больше – многие удивлялись, что он долго не пьянеет и это очень льстило ему), но все это происходило для него как не более чем игра – игра, которая должна вот-вот кончиться, или из которой можно в любой момент выйти по собственному желанию.
Но, каждый раз, когда реальная жизнь вдруг показывала свое истинное лицо, его мир давал трещину, словно бы он был окружён невидимой скорлупой, эдаким хрупким фильтром, пропускающим в сознание только определенные картины окружающего мира и вступающим в ожесточенную схватку со всеми остальными его вариантами. И тогда сквозь эти трещины в него вдруг заглядывали безумные глаза повседневной реальности…
В школе он нравился девочкам. И учителям. А вот с ребятами всё было не так просто. Его неумолимо тянуло к «униженным и оскорбленным». Такие всегда находятся в любом классе. В отличие от других учеников, он не делил людей на «лучших» и «худших». Они всё для него были хорошими. Просто некоторым не хватало внешней яркости, наглости, стремления выделиться… А другие наоборот, так стремились подчеркнуть своё “Я”, что он спокойно предоставлял им это право, без малейшего усилия уходя в тень. Но как раз среди тех, тихих, забитых, замкнутых, необщительных, и находились самые неожиданные сокровища духа. Там были дети из «неблагополучных» семей, там были дети толстые, дети в дурацких очках, заикающиеся и т.д. Все те, кто были изгоями в классе, в школе, в жизни…
И он, почти отличник, почти успешный во всём, общался с ними на равных, не зубоскалил, не дразнился, не смеялся. И они в ответ тянулись к нему. Сначала с опаской, ожидая подвоха, а потом раскрывались и становились друзьями. Он стал своеобразной перемычкой, буфером, мостом, соединяющим разные полюсы класса.
*
А она никогда не задумывалась. Ей просто было некогда, потому что мир за окнами манил еще не покоренными вершинами деревьев, разноцветными крыльями бабочек и цветами, которые никак не хотели цвести вечно. Правда, именно с проблемой цветов ей все же удалось как-то справиться. Она придумала, верней, подсмотрела “у одной знакомой бабушки”, как спасти цветы. Бабушка время от времени открывала огромный фолиант, держа его на коленях, бережно брала из него плоский и практически бесцветный цветок, и самозабвенно вдыхала его еле уловимый аромат. Трехлетняя девочка морщила свой сгоревший на солнце нос и пристраивалась рядом. «Он живой?», – спрашивала она старушку, а та улыбалась и кивала: «Да. До тех пор, пока я люблю того, кто его сорвал».
И она стала рвать цветы, спасая их от смерти, и рассовывать по книжкам, попадавшимся ей на глаза.
И тогда отец, взяв в руки уже не закрывающуюся от вложенных между ее страниц цветов книжку, объяснил ей, что это только бабушкин цветок хранит ту самую настоящую любовь – но только потому, что это ее, бабушки, любовь. К любимому ею дедушке…
«Но и твоя любовь – хороший хранитель. Только, понимаешь, когда любят двое – это гораздо надежней» – усмехнулся отец и погладил ее по голове. Девчонка хитро сощурилась и, почесав нос, твердо сказала: «Понимаю, мне пора влюбиться!», и под смешинки-морщинки отцовых глаз вышла на улицу. Видимо, на поиски любви…
К шести годам за ее плечами были три не очень разделенных любви. Мальчики в детском саду почему-то сразу плакали и со всех ног бежали к воспиталке, когда она изливала на них свою вселенскую любовь. И ни за что не хотели заводить общих жуков в спичечном коробке, играть с ее куклами, признаваться в любви и дарить цветы. И тогда она пересмотрела свои взгляды на любовь – стала играть с мальчишками в машинки и войнушку, бегать наперегонки и безбашенно лазить по самым высоким деревьям…
Ей было весело. И удручало только одно – ей никак не хотели дарить цветы. На что мама строго ей сказала, что все это глупости и она еще просто слишком мала, и еще сказала, чтобы она категорически перестала приставать к мальчишкам. А старший брат, утирая ей слезы, ручьем стекающие с подбородка, улыбнулся и тоже сказал: «Ну, не плакай… Однажды приедет и за тобой принц на белом коне и подарит тебе твой самый аленький цветочек… Ну, а ты уж тогда подари ему вечность!».
Вечность? Плакать она перестала, только вот, где принц возьмет коня, ей было совершенно непонятно. Все кони жили почему-то только в телевизоре, да и принцев ей пока во дворе встречать не доводилось. А в садике она уж точно не найдет никакого принца, она это точно знала, и поэтому вечером за ужином заявила, что в садик больше не пойдет.
– Да? И чем же ты собираешься заняться? – улыбнулся отец.
– Я пойду в школу. Читать я умею. Писать тоже. Все! В садике мне делать нечего. В садике пропадут все мои таланты! – топнула она ногой, хотя и не достала ею до пола.
Родители переглянулись и рассмеялись.
– Хорошо. Завтра запишем тебя в школу.
В школу ее взяли. Благо решение совпало с возрастом. И первого сентября, гордо неся свой портфель, она уже ни на каких мальчишек даже не посмотрела. Принцев среди цепляющихся за мамины и папины руки мальчишек не наблюдалось.
И вдруг выяснилось, что она, оказывается, умна. Она хорошо считала, легко решала задачки и, высунув кончик языка, старательно выводила красивые палочки, а потом буквы и слова. Она училась легко, переходя из класса в класс с неизменной похвальной грамотой и табелем, в котором были только пятерки. В школе ей нравилось. Она училась играючи и мальчишки ее не интересовали: все ее принцы жили в фильмах и книгах. Она плакала и смеялась вместе с ними, и годам к тринадцати они стали приходить к ней во снах, брать ее за руку и говорить ей о ее красоте и своей к ней любви…
*
– …Сколько помню тебя, ты всегда сидишь уткнувшись в газету. Оторвись, Лукер! Помнишь моих “первенцев”? Мне кажется пора их столкнуть лбами! А то она все мечтает о принцах и белых конях под балконом! Ну же, пусть они отдадут друг дружке первую любовь!
– Первую? Ты думаешь они заслужили всего лишь первую? Нет, малыш, они еще не доросли друг до друга, сейчас их любовь будет слишком горяча и от этого она выгорит дотла, и впоследствии им незачем будет дальше жить. Не суетись, Кипер, прошу тебя, дай им время… – и старик снова уткнулся в еще недочитанный им местный таблоид.
*
Он никогда не стремился в лидеры, хотя его нередко подталкивали туда и он, возможно, преуспел бы в этом, если бы лез вперед «работая локтями». Но ему претила “ходьба по головам”. Уже тогда, в младости-юности, еще неосознанно, но он отвергал всякую суетливость в вопросах верховенства, власти над кем-то, ибо не считал себя достойным такой, на его взгляд, сомнительной «чести». А когда ему поневоле все же приходилось руководить, то он старался сделать так, чтобы всем было хорошо, совершенно не понимая, что это в принципе невозможно. В результате часто приходилось делать работу самому. И это тоже был урок…
Он играл на гитаре и пел песни. И именно они, гитара и песни, преподнесли ему его самый первый урок. В какой-то момент он осознал, что у него совершенно посредственны и музыкальный слух, и гитарная техника, и это стало ясно уже по одному тому, что те ребята, которых он успел обучить игре, давно превзошли своего учителя. А уж окончательно утвердился он в этом своем убеждении сразу после того, как послушал свой голос на магнитофонной записи. Это звучало настолько гадко, что он сначала даже не поверил. Ведь в любой компании, где была гитара, его всегда просили спеть. Не могли же они так лицемерить, или – просто снисходительно обманывать его?! Да, тогда он еще верил, что все люди братья, и все желают друг другу добра…
Но с тех пор он стал намного осторожнее и его гитара начала покрываться пылью.
Он взялся за кисти. Разноцветные, сказочные миры вихрились в его голове, толкались, подшучивая друг над другом, вываливались из ушей и щекотали в носу. Но он никак не мог уговорить их переселиться на холст. Яркость красок мгновенно тускнела, лишь только они покидали кисть – и на холсте рождались одни только копии и пародии…
И тогда он перешел на графику. Но то, что появлялось из под его пера, вызывало у зрителя не более чем недоумение – однако, именно в таком самовыражении он чувствовал нечто совершенно особенное, какой-то внутренний смысл, который, даже если бы он сам и захотел, то не смог бы объяснить. Ему нравилась собственная графика. Минимализм, скудность на грани аскетизма, когда буквально несколькими взмахами пера, без всяких тщательных прорисовок и зрительного мельтешения линий можно выразить чувство, эмоцию, мысль, короче – любые эманации смысла бытия. И пусть зрителю оно было не всегда понятно, зато он-то знал, что оно там есть!
Но это было уже потом, много позже, когда он начал смотреть на жизнь другими, более внимательными глазами…
*
Видимо тогда “его гитара” и перешла в ее руки. Брат подружки показал ей три аккорда и научил играть две песни на этих аккордах. Неделю, как и прежде высунув кончик языка, она старательно заучивала аккорды. А когда, придя к выводу, что ногти только мешают, она их безжалостно остригла. И вечером, сначала подружкам, а потом и всей дворовой компании выдала обе песни. Девчонки стали подпевать, а мальчишки перестали возиться с великом, и кто-то из них сказал «О, сбацай еще что-нибудь!». Она растерялась. Сбацать? Но она-то выучила только две песни! Хорошо, что мама вовремя позвала домой.
И назавтра, гордая собой, она спела им свою новую песню. Подбирать на слух чужие песни ей еще не приходилось, поэтому пришлось придумать свою. Это были ее первые стихи и ее первая песня! Успех был неожиданно громким…
Да, хотелось бы ей вернуться в те года и, стоя в тени каштанов, послушать свое тогдашнее пение. Наверное, это было смешно, хотя разве может быть смешной юность? А потом гитарный запой сошел «на нет». Вместе с падающими желтыми листьями, и, постепенно распадающейся на пары, компанией. Ее подружки не стали дожидаться принцев, их вполне устраивали мальчишки из соседних подъездов.
И она осталась одна, со своими книгами, фильмами и, нарисованными на полях тетрадей, мечтами. К тому же она нашла еще один способ сохранить цветы живыми. Их нужно было нарисовать. И она рисовала. Вот только беда – цвет отнимал у цветов жизнь, хотя, как ей казалось, обычный карандаш или черная тушь могли остановить ее умирание…
Она влюбилась неожиданно. Так, как умеют влюбляться только подростки и блаженные – сразу и «навсегда», отдавая себя полностью и ничего не требуя взамен…
Тот мальчик вошел в их класс перед самым звонком, держа подмышкой кожаную папку. Классный руководитель что-то говорила, представляя нового ученика, а она во все глаза смотрела на парня. Белого коня не было, но она почему-то отчетливо слышала цокот копыт под своим балконом…
Мальчишка улыбнулся и пошел по ряду в ее сторону. Это была самая светлая влюбленность в ее жизни. Все закончилось вдруг, когда она случайно услышала: «Она? Да ну, замухрышка!». Весь вечер она всматривалась в свое отражение в зеркале, ища в нем красоту. Ах, если бы она тогда знала, что настоящая красота никогда не отражается в зеркалах…
На следующее утро она пошла в парикмахерскую, и толстая тетка равнодушно отрезала ей косу. В класс она вошла последней и села за первую парту рядом с худенькой застенчивой девочкой. «Обозналась» – сказала она себе и больше не оглядывалась на парня, сидевшего за последней партой. Первый шаг был сделан. Первый шаг в долгом хождении по кругу. Она думала, что идет к Нему, а на самом деле шла к себе. И каждый раз, когда жизнь замыкала очередной круг, она, под затихающий цокот копыт своей не случившейся любви, снова и снова вглядывалась в свое лицо, ища черты себя вчерашней. Но в зеркале отражалась улыбка чужого лица. «Обозналась» – только это одно и было неизменным.
*
А он жил словно бы в неоконченной пьесе, которую автор вдруг бросил за ненадобностью, не интересностью и бессюжетностью. И теперь ее герой повис где-то в середине реки, которая медленно и неумолимо влекла его в неизведанную, неизвестную даль… Хотя почему, собственно, в «неизвестную»? Нет же, она влекла его как раз туда, где, как известно, «все там будем»! И теперь, как казалось, ему предстояло доиграть свою роль до конца и тихо уйти со сцены, без оваций и аплодисментов. Сыграть добросовестно, в меру отпущенного ему жизнью таланта. Но как? Как, если автор покинул эту пьесу! Воспользоваться чужой ролью? Как делали многие и многие до этого? Или же рвануть наперекор судьбе – поперек, или даже против течения… И бить при этом себя в грудь, рвать жилы, харкать кровью, доказывая, что Я ЖИВОЙ! Что вот он я!..
*
Она перестала рисовать цветы. Да и прятать срезанные цветы в книгах тоже. Ей давно стало понятно, что вечность цветку может подарить только любовь и она продолжала эту любовь искать. Но Он в ее грезах никак не хотел приобретать никаких черт. Она знала только каким он не должен быть. Он не должен быть глупым, потому что глупость вообще, а мужская в особенности, доводила ее до исступления, и ей хотелось кричать, и сметать своим отчаянным воплем, как ураганом, все вокруг.
Он не должен быть грубым, потому что она тогда, отвечая грубостью на грубость, превращается в портового грузчика. Он никогда не должен видеть в ней другую женщину, потому что она не сможет долго играть чужую роль и однажды таки сфальшивит и тогда все рухнет. Да и чужие маски очень быстро прирастают, и их потом приходится отдирать с кровью. И затем опять очень долго искать себя, с большим трудом находить, но лишь для того, чтобы в очередной раз понять, что всё стоящее, которое у нее было, все-все, осталось в той, уже рухнувшей жизни… Что имела – не ценила, потеряв – жалела. Что бежала она в поисках лучшей любви, лучшего мужчины, лучшей жизни, но… любви лучшей попросту не бывает. Тебя либо любят, либо нет, либо принимают тебя такой, какая ты есть, либо пытаются сломать, чтобы переделать по-своему…
А если любят, то тогда не нужны никакие маски. Не нужно искать “свое” лицо, накладывая грим чужих тебе ролей. Да и лететь, как мотылек на чужой свет, не нужно. Ведь она ни разу ничего от этого не выиграла… Ну разве что одиночество. А мир? Этот радужный мир, который она так скрупулезно создавала в самой себе, не пуская туда никого и боялась не сохранить его для кого-то единственного, предназначенного только ей? Может быть хватит хранить этот мир за семью замками?
Она с горечью смотрела назад и чувствовала себя невесомым парашютиком одуванчика, который летел себе по ветру, да и влетел в ручей. И теперь несет ее потоком и прибивает то к кленовому листу, то к старой коряге, то к чужой лодке…
А ведь нужно было всего-то на всего – прибиться к берегу и пустить корни. И какая это будет земля уже не важно. Главное, чтобы было тепло и солнечно. А ручей? Да пусть он течет себе дальше.
*
Судьба, машинально тасующая карты чужих жизней, вдруг замешкалась, увидев как эти двое решительно пошли ей навстречу. Ведь она еще не решила, нужно ли им знакомиться? Или может для них же лучше просто пройти мимо, соприкоснувшись лишь потоками рассекаемого воздуха – да и разойтись в разные стороны, оставшись простыми безымянными “он” и “она” друг для друга?..
А они уже ехали в одном купе, что-то читали, и поезд, как какой-то неуемный брюзга, монотонно бурчал им: «Та-так, та-так, та-так…»
Мужчина отложил книгу и спросил свою спутницу:
– А не испить ли нам чаю?
– Чаю? Отчего же и не испить, – приняв тон, улыбнулась в ответ женщина.
И протянула руку:
– Ира.
– Очень приятно. Матвей.
Он вернулся, держа в руках два стакана с чаем, и поставив их на столик, вынул из подмышки зажатую там пачку печенья.
– Значит – Ира. Странно, но за всю мою долгую жизнь у меня не было ни одной знакомой Иры, – сказал он усаживаясь.
– Да? Хотите заполнить брешь? – улыбнулась она, – Хотя, честно скажу, и в моей жизни Матвеев тоже не было.
– Ну вот, а теперь у нас это будет, – он вернул ей ответную улыбку. – Вот только не думаю, что мы успеем до такой степени познакомиться, чтобы успеть заполнить эту, как вы говорите, брешь: к сожалению, не так у нас много для этого времени. Знаете, Ира, мне ведь совершенно недостаточно знать только имя человека, чтобы сказать, что я с ним знаком. А уж тем более это справедливо в отношении женщин. Женщина, это какая-то перманентная загадка для меня, к тому же знакомиться с ними я вообще никогда не умел. Хотите верьте, хотите нет, но для меня это всегда было самым сложным… Да и вообще, знаете ли, отношения с женщинами у меня всегда почему-то складывались, мягко говоря, непросто, хотя, вряд ли вам интересна эта тема…
Она обхватила стакан обеими ладонями и поднесла к губам. Сделала пару глотков, а потом взглянула на него и качнула головой:
– Отчего же, вполне себе тема. Но тогда уж ответьте, почему так происходило? Вам было с ними неинтересно? Вы не любили? Или не любили вас?
– Да нет, любили. Наверное, дело в том, что когда меня любили, то я воспринимал это как должное, я просто купался в этой любви. Но… как только любовь уходила, постепенно сменяясь безразличием, потом отчуждением, а после и презрением – вот тогда я полностью терялся, я метался и хватался за любую соломинку, пытаясь хоть что-то склеить, вернуть… И вообще, похоже, я каждый раз вел себя как полный идиот. Осознавал, что рушится моя судьба, сама жизнь расползается между пальцами, словно размокшая бумага, и я ничего – абсолютно ничего не мог с этим поделать! И, главное, я ничего не мог понять…
Я уже говорил, что женщина всегда оставалась для меня непостижимой загадкой. Как понять о чём вы думаете? Что представляете себе? Какие картины и образы обитают в ваших удивительных головах? Почему совершаются столь нелепые, непредсказуемые и алогичные поступки? Да, я не пытался отстраниться и посмотреть на них со стороны, оценить, проанализировать и разложить по полочкам. Наверное, считал это подлым. Чувствовал, что любить надо полностью, без оглядки и всякой задней мысли. Без попыток осмысления и понимания…
Он вздохнул, отвернулся к окну, и, будто говоря сам с собой, продолжил:
– Однажды я сформулировал это так: «Если ты можешь сказать, за что ты любишь человека, то это уже не любовь». Любовь священна, и если уж ты сорвался и нырнул в этот поток, отдайся на волю его волн, пусть несут, а там видно будет… И я, образно говоря, плыл каждый раз на волнах, кружил в водоворотах и, разбившись о пороги, оказывался выброшенным на пустынный, безжизненный берег…
Он умолк, продолжая глядеть на мелькающие за окном поля.
– Знаете, мне кажется, вы любили свою любовь, а не ту женщину, что вас одарила ею, – задумчиво произнесла Ира.
– Почему вы так решили? – он резко повернулся и взглянул ей в лицо.
– Вы говорили сейчас только о любви. О ее приходах и уходах. А о самих женщинах – ни слова.
– Женщины… да нет же, я любил их. Каждой из них я отдавал все: внимание, время, знания. Я им делал подарки. Я был с ними нежен. Я делал их жизнь интересней. Нет, вы не правы, я любил их.
– Галатея. Вы создавали Галатею, а ведь, каждая из них уже была создана до вас, – легкая улыбка тронула ее губы, – это извечная ошибка. Хотите совет? Никогда не навязывайте женщине свое представление о том, какой она должна быть. Бессмысленное это и неблагодарное занятие. Знаете, в любви есть лишь одно правило – нужно принимать любимого таким, какой он есть, но при этом и самому оставаться собой. Любая неискренность, даже попытка казаться лучше, чем вы есть, рано или поздно все разрушат. Знаете, какое это мерзкое чувство, когда в стремлении усовершенствовать, сделать лучше, мужчина берет и ломает тебя? Неужели ему непонятно, что это уже будет не та, кого он полюбил? И в результате любить уже некого – ни тому, ни другому, – она поставила стакан, который продолжала держать двумя руками, на стол и вздохнула. – Мужчина вряд ли будет любить смятый комок пластилина в своей руке, а женщина? Будет ли любить она руку, которая не обнимает ее, а сжимает, не давая дышать?
– Так просто? И что, не нужно ничего делать для нее? – он усмехнулся.
– Нужно. Но только то, о чем она попросит. И не путать просьбу и каприз.
– Вас, Ира, сминали?
– Множество раз, Матвей, но счастья никому это так и не принесло. А любовь уходила, и я вслед за ней…
*
– Чем ты занят, Кипер? Твои адепты вышли на линию судьбы, а ты смотришь …футбол?
– А ты все время читаешь газеты, – парень щелкнул пультом, гася экран. -Забавная игра. Никак не найду в ней смысла. А этим двоим, пожалуй, уже давно пора узнать друг друга.
– Нет-нет, им нельзя сейчас переступать черту! Оба будут считать, что их встреча и все, что произойдет позже – жест отчаяния. Они так и не поймут, что предназначены друг для друга, что вся их жизнь была дорогой… и разойдутся навсегда. Навечно! Немедленно вмешайся!
*
Поезд плавно замедлил ход и за окном заметались огни станционных ночных фонарей. Состав конвульсивно дернулся и остановился. В купе повисло неловкое молчание, словно их разговор споткнулся об эту станцию. В спящем вагоне захлопали двери, открылась дверь и в их купе.
– Не помешаю? – улыбающийся парень, закинул сумку на полку. – Чаевничаете? В третьем часу ночи? А я мечтал выспаться.
Два взгляда метнулись в беспросветную черноту окна и, оттолкнувшись от нее, пересеклись.
– Да. Пора спать, – оба голоса прозвучали одновременно.
– Вот и славно, – парень подтянулся на руках и легко забросил свое тело на полку. Матвей взял стаканы и вышел из купе, а Ира, прихватив полотенце, поспешила в противоположную сторону вагона. Когда она возвратилась, свет в купе был погашен. Лишь лампочка над ее подушкой светила мягким светом. Пассажир на верхней полке заворочался и женщина торопливо легла. Щелчок выключателя совпал с практически бесшумным “Спокойной ночи, Ира”.
– И вам, Матвей…
*
Ему снился сон. Он сидел на перилах деревянной террасы с доме деда. А она, Ира, время от времени улыбаясь ему, Матвею, и слушала своего собеседника, который сидел к нему спиной.
А слушать она умела взахлёб. Так что ее визави разгорячался, словно угли на ветру, начинал добавлять новые подробности в собственный рассказ, приукрашать, а то и просто выдумывать… И всё это зачастую заканчивалось всеобщим хохотом, безумным весельем, при этом она органично вписывалась в чужой рассказ, становилась непосредственным участником событий, да так, что в дальнейшем, по прошествии времени, этот рассказ, пересказанный третьими лицами, уже не мыслился без её участия. Так рождались маленькие городские легенды…
И Матвей все смотрел и смотрел на нее, ловя ее редкие улыбки, любуясь ею, но потом все же спрыгнул с перил:
– Не испить ли нам чаю?
– Чаю? Отчего же и не испить, – улыбнулась в ответ Ира, его Ира. Она протянула руку и подалась к нему, подставляя для поцелуя висок…
*
Матвей проснулся от шорохов и движения в купе. Ощущение покоя и счастья, оставленное сном не проходило.
– Ира, не испить ли нам чаю? – не открывая глаз, сказал Матвей.
– Испить? Давненько я не слышал этого слова. Но Ира, если конечно так зовут вашу попутчицу, пару минут назад вышла на станции.
– Как вышла? – Матвей резко сел, уставившись в глаза благообразному старику, сидящему на полке напротив, рядом со скатанным матрацем.
“Как вышла? Идиот! Я даже не поинтересовался куда она едет! Пресловутого телефончика не спросил! Я, что, думал, что поезд будет вести нас вечно? В одном направлении?..”
Матвей сидел, осознавая произошедшее, а старик невозмутимо разворачивал матрац. “Верхний” попутчик свесил голову с полки, хмуро наблюдая за неспешными действиями своих спутников.
– У вас там книга на пол упала, – прервал он молчание. Матвей машинально протянул руку и поднял с пола книгу. Автоматически открыл ее на заложенной странице…
” – …Любовь не должна просить, – сказала она, – и не должна требовать, любовь должна иметь силу увериться в самой себе. Тогда не ее что то притягивает, а притягивает она сама. Синклер, вашу любовь притягиваю я. Если она когда-нибудь притянет меня, я приду. Я не хочу делать подарки, я хочу, чтобы меня обретали…”*
Он закрыл книгу и решительно встал. Потянул за ремень сумку и вышел, не прощаясь, из купе.
*
– Я уже думал, что мне придется подсказывать вам обоим, что надо делать, – проворчал, разворачивая газету Лукер.
– Ха, да я же в ту книжку ее визитку вложил! – свесилась с верхней полки лохматая голова Кипера. – Кстати, а что ты здесь делаешь? Ты же сказал, что они еще не закончили свой путь?
– Закончили. Тот путь закончился, пока ты безмятежно спал. И сейчас они делают последние шаги к обретению себя на новом…
Старик медленно провел ладонью по газетной странице и застывшее фото пылающего где-то небоскреба неожиданно сменилось снимком перрона, на котором лицом к лицу стояли двое…
* Генрих Гессе «Демиан. История юности Эмиля Синклера»
Киев-Рязань
2012-2014
Автор: Мира Кузнецова
Источник: https://litbes.com/listaya-gesse/
Больше хороших рассказов здесь: https://litbes.com/
Ставьте лайки, делитесь ссылкой, подписывайтесь на наш канал. Ждем авторов и читателей в нашей Беседке. Здесь весело и интересно.
Больше интересных статей здесь: Мистика.
Источник статьи: Листая Гессе.