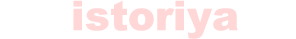Иллюстрации к лонгриду нарисовала / Саша Рогова, Дискурс
Около четырёх миллионов украинских детей, по данным ЮНИСЕФ, с начала войны были вынуждены покинуть свои дома — это больше половины всех детей страны. Сотни несовершеннолетних погибли и лишились родителей. Украинские власти также заявляют об изнасилованиях детей российскими солдатами. При этом адекватно оценить число жертв «спецоперации» сейчас невозможно — последствия действий российских военных ещё долго будут проноситься эхом по миру, искажаясь всеми сторонами конфликта. Пока одни россияне мечутся в поисках правды, а другие беспрекословно верят всему, что им скажут по телевизору или в интернете, очевидным остаётся урон, который военные действия в Украине наносят неокрепшей детской психике.
Какой отпечаток российская «спецоперация» накладывает на всю дальнейшую жизнь детей, ставших её свидетелями, недавно исследовали в Kit: симптомы ПТСР проявляются у несовершеннолетних уже сейчас. Полностью забыть эти переживания они уже не смогут — многие будут страдать дезадаптацией и расстройствами сна, плохо переносить стресс и с трудом учиться, а также передадут своим детям и внукам тревожные расстройства и депрессию.
О военных травмах не понаслышке знают дети Великой Отечественной, 81 год назад столкнувшиеся с её ужасами. Чтобы понять, что чувствует ребёнок во время войны, и как дети Второй мировой относятся к сегодняшней «спецоперации», журналистка Яна Климова поговорила с тремя детьми ВОВ, которым в 1941 году было 4, 8 и 12 лет. В пронзительных монологах герои рассказывают о жизни в оккупированной Беларуси, бомбёжках Киева и Одессы, страшных эвакуациях, катастрофическом кораблекрушении, спасении от плена во время операции «Багратион» и трудностях послевоенного времени — репрессиях, коснувшихся родителей, беспросветной бедности карточной системы и задержках в развитии, которые повлекла травма. А также делятся, почему поддерживают или осуждают спецоперацию, что думают о символике Z и какими главными выводами о войне хотят поделиться с потомками.
Лариса Гармаш, 1933 года рождения
«Я была невероятным патриотом». О бомбёжках Киева, спасении от Бабьего Яра, эвакуации и гуманитарной помощи
С начала войны мне было 8 лет. С 4 лет я воспитывалась бабушкой, так как оба родителя были репрессированы — отец был на три года отправлен в ссылку, а мать — на девять лет в лагеря Колымы. Первый раз я увидела папу в 40-м году, а маму в 47-м. Бабушка олицетворяла для меня весь мир. Я даже называла её не бабушка, а бабуся. На Украине всех бабушек называли бабусями. И, честно говоря, я долгое время думала, что это имя собственное.
На дворе 39-й год, происходят частые землетрясения. Но никаких ужасных событий нет. В 40-м возвращается папа из ссылки. Мы проводим с ним много времени. Гуляем.
22 июня 41-го назначается поездка на пляж. Я в предвкушении жду следующего дня. Ночь. Грохот. Трясется дверь, трясется люстра. Я просыпаюсь из-за шума в полной уверенности, что это снова землетрясение. Засыпаю. Наступает утро. Бабушка, которая прошла Первую мировую, прекрасно понимала, что происходит, в отличие от меня.
Отец пришел к нам с утра и забрал меня к себе домой. Он жил в квартире у своей покойной матери, а мы с бабушкой в самом центре Киева на улице Саксаганского. У папы дома я и услышала по радио о начале войны и вернулась обратно к бабушке, потому что папа вместе с другом пошли записываться в военкомат. С этого дня начались бомбежки — мы были вынуждены уходить в бомбоубежище.
Бомбоубежище было непростое. Оно связано с историей моей семьи. Мой дедушка окончил медицинский факультет одесского университета, а затем в Киеве занимался фармацевтикой. Где-то в 1915-м у него были замечательные аптечные склады в Киеве, но после 18-19 года их быстро переоборудовали в бомбоубежище. Там-то мы и прятались. Продолжались бобмёжки, по моим ощущениям и воспоминаниям, до 12 июля.
Родную сестру папы и её сына позвал с собой в эвакуацию какой-то родственник её мужа. И, как только их начали эвакуировать, моя тётя Софья сказала: «Я никуда не уеду без Ларочки и Елизаветы[бабушки Ларисы]». Знаете, через десятки лет я поняла, что она нас просто спасла от Бабьего Яра. Спасла от неминуемой смерти.
И вот, 12 июля, папа сажает меня, бабусю, тетю и её мужа на баржу, которая поплывет в сторону Днепропетровска. Не помню, сколько дней мы были в пути, но прекрасно помню медленное течение. Бабушка взяла мало вещей, но среди них в моей памяти сохранилась подушка. Когда «юнкерсы» летели над нами, она накрывала меня этой подушкой и ложилась сверху. У неё была миссия — спасти меня. Всё это время, не помню уже сколько, нас бомбили.
Мы приплыли в Днепропетровск. Сели на поезд и двинулись в сторону Свердловска. Тогда перемещение людей осуществлялось в теплушках. На каждую теплушку — несколько семей. И, конечно же, среди них было много детей. На больших остановках мы любили повеселиться.
После приезда в Свердловск нас увезли в поселок Реж. Сейчас это город на Урале в Свердловской области. Целый год я провела в Свердловске, слушая все сводки с фронта и читая множество книг — например, «Анну Каренину» в свои-то 8 лет. Там же я пошла в первый класс, а бабушка устроилась на работу. Она перебирала овощи в ночную смену на продуктовой базе при госпитале, приносила с работы ложечку сахара и всегда отдавала мне. Жили мы тогда очень бедно.
Во втором классе я переезжаю в Безымянку, предместье Куйбышева, и почти до конца войны остаюсь здесь. Отмечаю на карте звездочками продвижение нашей армии, жду встречи с отцом и получаю в первый раз гуманитарную помощь. Очень хорошо помню американские посылки — там были яичный порошок, обувь и много всего разного… Думаю, что с тех пор я узнала о том, как много они помогали детям. Остальное я оценила намного позже.
В 45-м году мы возвращаемся в Киев. Отец получил тяжелое ранение под Москвой и после госпиталя не вернулся на фронт. Служил на Урале (г. Тавда, Свердловская область), как раз недалеко от нас. Но к моменту нашего отъезда в Киев еще не демобилизовался.
Я была невероятным патриотом, пионеркой, комсомолкой. Каждый салют я ходила смотреть с такой радостью и волнением, ожидая нашу Победу…
«Никаких компаний». О повторной ссылке матери и сталинском процессе над мужем
Первые послевоенные годы выдались трудными — сначала меня разлучили с бабушкой, и нам вшестером (с папой и семьёй тёти) пришлось жить в малюсенькой комнате 16-18 метров. Потом папа получил двухкомнатную квартиру, и у меня появилась мачеха. Для меня это была большая трагедия — мне не хотелось ни с кем делить отца, а уж тем более идти в эту квартиру. Но деваться было некуда. Вскоре я подружилась с дочкой мачехи, и в знак нашей дружбы мы прокололи пальчики, кровью скрепив наши узы.
А в 47-м году вернулась из ссылки мама. Я ничего не понимала, потому что для меня это была совершенно незнакомая женщина, но я влюбилась в неё с первого взгляда. Тогда же я узнала, что у меня появился братик. Брата своего я похоронила меньше месяца назад — ему было 79 лет. Мама нам так и не сказала, как мы ни уговаривали, кто его отец. Единственное, что она ответила: «Это не имеет никакого значения». А я считаю, что он её спас.
Через два года бабушка умерла, а маму опять арестовали отправили в Мордовию (поселок Явас, Дубравлаг). Этот лагерь отличался от лагерей Магадана и Колымы, где она побывала. Тут уже были и номера, и молодежь. Мама имела право писать раз в полгода, и все её письма начинались и заканчивались одним: «Никаких компаний». С того момента я поняла, что нужно быть аккуратнее с окружением.
Тетка отдала брата в детский дом в Киеве. Теперь пришло время таскать передачки и ему. В 51-м году я оканчиваю школу и два года подряд не поступаю в институт, потому что работаю. В 53-м у мамы заканчивается срок, но её отправляют в ссылку этапом в Казахстан (с. Михайловское — г. Джамбул), и я бросаю все и уезжаю к ней. Брата из детдома привозят этапом позже.
Спустя два года я приезжаю в Москву, поступаю в Московский экономико-статистический институт и там знакомлюсь со своим будущим мужем. В 51-м году он был арестован на улице Горького. Лубянка. Трибунал. Только что отменена смертная казнь. Он приговорён к 25 годам лагеря и освобождается в 1955 году после пересмотра дела. Всю свою жизнь, начиная с перестройки и до ликвидации «Мемориала», мы посвятили науке — математическим методам в экономике, первым электронным машинам, кибернетике, закону больших чисел.
«Абсолютно зомбирована. Я ничего не могу сделать». Об извращении истории, личной трагедии «спецоперации» и настоящих ветеранах
Началось всё с предчувствия. И, нужно сказать, что началось не в 2022-м, а 2014 году. Я с Киевом связи не теряла никогда. Мама после всех событий с лагерями жила в Киеве, и я ездила туда. Но Москва стала очень-очень сильно моей.
Когда узнаешь о таком [спецоперации], очень не хочется верить. Утро 24 февраля я встретила с негодованием, болью и ужасными чувствами. Дело в том, что я очень рано стала пацифистом. Я даже не знала этого слова, — узнала намного позже. Я ненавидела войну. Ненавидела! Я до сих пор не могу понять, не укладывается в голове.
У меня на странице в фейсбуке есть фотография, сделанная то ли в Буче, то ли Ирпене — там папа и мама вместе. Это были наши дачные места. Вы понимаете, что для меня значат эти места? А сейчас, когда говорят о Приморском районе, в Мариуполе, где частные дома… Мы давно с Виталиком [мужем] ночевали там у его родной тетки. У нее там домик был свой. Три года подряд мы туда ездили. И вот как смотреть на него?
Я прослушала всё, что говорил наш товарищ про историю. И пришла к выводу, что он ее не знает и не представляет. Вымышленное нечто сформировалось у него в голове, и с этим он живет. Вот и всё. Это причина.
Нас, либералов и демократов, Дума, как в меме — «не представляет». Людей, которые бы нас представляли, нет. И не будет. Пока. Это извращение полное. Извращение истории. Я слушаю наших опытных политологов, историков, которые объясняют это лучше меня. И видеть эти цифры! 80%… У меня трагедия. Трагедия, в том числе, и в моем доме на моем этаже.
У меня два года назад был инсульт. Я восстановилась после него. Всяко, но восстановилась. Так вот, приятельница, моя же соседка, помогла мне прийти мне в норму, вытаскивая на улицу подышать свежим воздухом и ставя необходимые уколы. Безумно преданный мне человек. У нас 20 лет разницы — ей 69 наступит вот-вот. Мы уже 60 лет с ней живем «квартира в квартиру». Абсолютно зомбирована. Она говорит: «Я не верю». Я отвечаю ей: «Ну хорошо, мне ты веришь?». Она говорит: «Там нацисты». Я не могу ничего сделать.
И мы договорились, что не будем больше затрагивать эту тему. Она и сейчас для меня самый близкий и любимый человек. Но она смотрит Москва24. Я прочитала недавно об одном человеке, который никогда к телевизору не подходил. И вот однажды он взял и включил его. Посмотрел пять минут, а после сказал: «Боже мой, я был готов взять автомат».
Я же уговариваю сына забрать телевизор, чтобы мультики показывать внукам. Я довольно активный пользователь интернета — на 80-летие дети подарили мне планшет, и я как-то очень быстро разобралась, как им пользоваться. Не без помощи, конечно. Если сейчас возникают какие-то технические неполадки, то я обращаюсь к внукам. Они мои консультанты. Я очень слежу за всем.
Отсылаю свои рассказы людям, которые были и бывают на «Эхо Москвы»: Юдину, Глуховскому, Будницкому, Пивоварову. Я, по сути, в Ютубе живу. У меня есть VPN. Но я обращаюсь к нему, чтобы посмотреть в фейсбуке своих друзей. Смотрю FRЕЕДОМ, Украина24, «Эхо Петербурга» и прочее. Очень горжусь украинскими политологами. У меня уже есть любимые, уважаемые — Яковина, Фесенко. Слушаю разные интервью.
Символика Z Необъяснима. Трактовок миллион! У меня она вызывает ассоциации со свастикой. У меня не вызывает негатив парад Победы, приуроченный к окончанию войны 45-го года. Все остальные парады не смотрю. Именно потому что я пацифист. Я не хочу видеть то, чем уничтожают людей. Как бы они красиво и замечательно не шли по Красной площади. Ветеранов сейчас не осталось. Ветераны труда может быть. Из настоящих ветеранов никто бы не поддержал эту спецоперацию. Такое моё убеждение.
Сама желаю только мирного неба над головой. И очень сильно болею за Украину и мир. Я ведь смотрю и ООН. Жду, когда, наконец, Украину примут в ЕС. Она этого заслуживает, безусловно.
Я давлю в себе чувство ненависти. Страшной. Нечеловеческой. Сегодня [в день интервью] чистый четверг. Пасха приближается. Бог есть любовь.
Обратите внимание: I Мировая война: итоги военного конфликта. Последствия сражения и судьба участников войны.
Я просто прошу мира. При том, что я очень редко желаю людям зла, и от себя гоню это, но всё же хочу увидеть этих людей, пусть даже не лично, но на скамьях будущего Нюрнберга. Кто-то должен поплатиться за это. Мариуполь для меня родной город. Я начинаю и заканчиваю утро и вечер там.Тамара Клинова, 1938 года рождения
«Я очень громко кричала и плакала». Три года оккупации в Беларуси: стоны военнопленных, облавы, спасение в операции «Багратион», психологическая травма и судьбы близких
Тогда мне было около четырёх лет. Мы с родителями жили в Чите, но летом накануне войны приехали к родным в Беларусь — в посёлок Горяной Витебской области. Там мы попали в оккупацию на три тяжёлых года.
Страшных моментов было очень много. Помню тонны наших военнопленных, которые находились за колючей проволокой под открытым небом даже в лютый холод — голодные, брошенные. Когда наступала ночная тишина, раздавался страшный стон. Пленных охраняли фашисты с собаками. Эти собаки часто набрасывались на взрослых и детей, потому что были приучены к этому.
Все жили в огромном страхе. Отец и родной дядя были на фронте — они кадровые офицеры, поэтому наша семья была у полицаев на примете. Как-то ночью немцы забрали маму — я помню, что очень громко кричала и плакала. Но через несколько дней она вернулась. Маму спас знакомый, у которого она ещё в юности училась в Полоцком училище — он был переводчиком у немцев и попросил отпустить её.
Моей тёте тогда было лет 19. А фашисты как раз забирали всех молодых девушек и увозили к себе в Германию как скот. Накануне облав, которые происходили ночью, этот товарищ, который помог маме, сообщал нам о них. Тётю Лиду спасало только то, что её превращали в какую-то страшную больную бабушку — закутывали, обмазывали лицо гарью и пылью. Немцы очень боялись болезней, поэтому сразу же уходили.
Но в конце концов летом 1944 года, когда проходила операция «Багратион», немцы погрузили нас всех в вагоны с маленьким окошечком — ну вот как скот перевозили раньше — и отправили на границу. В какой-то момент вагон остановился и раздались крики полицаев. Когда всё стихло, мы выглянули в это маленькое окошечко — вокруг был только лес. Мы взломали двери и вышли на волю. Оказалось, немцы не успели довезти нас до границы, потому что их настигли наши войска. Фашисты отцепили вагон от паровоза и сбежали — им некогда было разбираться с нами. Наших разведчиков все встретили с недоверием, боясь провокаций, и поэтому как-то не сразу поняли, что это наши — родные, близкие.
Когда мы вернулись в свой поселок, там не оказалось ни одного уцелевшего дома — всё было сожжено и разбито. Мы выкопали землянки и в них жили. Хорошо, что было лето.
Ну, а какая трогательная встреча была с моим папой! Мой папа, Овсеев Георгий Антонович, прослужил в Полбинском полку, участвовал в битве под Москвой, на Курской дуге, под Сталинградом, на Северном Кавказе. Когда пришло освобождение Белоруссии, стоял летний теплый день — в небе показался наш военный самолет, который сделал несколько кругов над сожженными домами и приземлился в поле. Мы, дети, побежали к нему. Из самолета вышли два летчика, и один из них дрожащим голосом спросил «Олешовы живы?» (это девичья фамилия моей мамы). Можно представить, что испытывал в этот момент мой папа. Ребята вытолкнули меня к нему навстречу. Он схватил меня, прижал к себе и говорил: «Я твой папа, я твой папа» — «Нет, мой папа на фронте» — рыдала я. За эти годы я успела забыть его и, ко всему, испытывала только страх. Вот так прошла наша встреча, которую мы не могли вспоминать без слез (плачет). Впоследствии я много разговаривала о войне с папой и его фронтовыми товарищами — они сохранили дружбу до конца своих дней. У меня есть книга о войне и воспоминания папы, записанные его рукой… Сейчас остается только пожалеть, что я не успела его полностью расспросить, потому что он рано ушел из жизни — папе было только 60 лет, когда он умер.
Но тогда, когда папа прилетел, он пробыл с нами всего один день — узнал, что мы живы, и улетел, потому что война продолжалась. До 1945 года мы жили в Беларуси, но уже не в землянке — нас приютила какая-то женщина. Люди тогда были добрее, лучше, помогали друг другу. День Победы, вы знаете, я не помню…как-то у меня в памяти не осталось. Папа полетел в Москву, а нас отправил на Кубань, к своим родным. Там уже с опозданием я пошла в первый класс.
Но у меня возникли огромные трудности, война оставила страшный след — я настолько боялась всего, что ничему не могла научиться — ни читать, ни писать. Мне требовалась психологическая помощь, я очень долго болела, обучение давалось трудно — было какое-то торможение в памяти и действиях. Но постепенно, хоть и тяжело и долго, я восстановилась, хотя страх остался во мне на многие-многие годы — эта память со мной навсегда.
Когда мне было уже за сорок лет, мы с мужем оказались в Чехословакии и посетили музей Великой Отечественной войны. И там были настолько реалистичные инсталляции — панорама отражала грохот оружия и свист пуль. Это звучало так натурально, что я потеряла сознание.
Война оставила отпечаток на всей нашей семье — мой папа 30 лет прослужил в вооруженных силах от солдата до полковника военно-морской авиации; брат моей мамы, Олешов Николай Иванович, дошел до Берлина; брат папы, Осеев Иван Анатольевич, погиб под Брестом, другой его брат — Фёдор Антонович, тоже дошел до Берлина. Солдатскими вдовами остались сёстры отца — Матрена Антоновна и Мария Антоновна. Без отцов выросли их дети. Мой муж, Клинов Владислав Павлович, выпускник Сталинградского суворовского училища, генерал-майор, прослужил в армии более 30 лет. А сын — Клинов Георгий Владиславович — солдат-десантник, побывал в горячих точках. Ну, а я в своей жизни проработала 50 лет в музыкальной школе — учила детей не только любви к музыке, искусству, но и к Родине. На протяжении многих лет проводила концерты и беседы на патриотические темы, которые так необходимы нашим детям и их родителям. Вот такая связь.
«Наше дело правое». О причинах спецоперации, отношении к национализму и символике Z
Я хорошо знаю западную Украину. Муж служил в Прикарпатском военном округе в штабе, который был во Львове, около 7 лет. У меня сын родился 50 лет назад там же. Поэтому я хорошо помню и знаю, как относились они к нам тогда. Постоянно были какие-то подпольные организации, которые раскрывали… Неспокойно жилось тогда ещё в те годы. Действительно ощущали такое вот отношение к нам… Когда мы посылали детей в магазин, даже не всегда им продавали хлеб, потому что русский ребёнок. Взрослым им приходилось продавать, потому что взрослые могли ответить. Но это всегда было с таким пренебрежением… Они считали, что мы — нафталин. Конечно, тогда ещё была советская власть. В общем, тогда ещё были такие настроения.
Ярослав Галан, наш советский человек, освещал Нюрнбергский процесс в 45-м году, и действительно ведь как с ним рассчитались вот эти бандеровцы. Бандеровцы они вообще были и тогда [в 70-е] — мы чувствовали их ненависть. Они этого человека растерзали просто своими топориками. Потом поставили ему памятник во Львове…
Поэтому для меня это [спецоперация] оказалось действительно правильными действиями, потому что это люди, которые нас ненавидели. Для нас это, в общем…для меня это было правильное решение. Я считаю, что так и должно быть, иначе они пришли бы к нам, эта публика такая…страшная.
Поэтому я восприняла эту операцию как должное, необходимое, потому что эти люди не принесут никому облегчения. Непонятно, на чём держится их национализм. Хотя Львов совершенно польский город, но они почувствовали себя хозяевами вообще всей земли.
О символике Z, я считаю, — это идет от 45 года, когда ещё шла борьба с фашизмом…а сейчас же у нас денацификация идет. И вот тогда этот знак как раз и обозначал…так что я считаю, что вот, ну…приняли знаком.
Операция должна закончиться тем, что Донбасс перейдет к нам — это законные наши земли, поэтому они должны быть с нами — в нашем государстве. Ну они же и хотят Донбасс. Это наша территория. То, что Крым, — это естественно. Про Крым даже разговаривать не приходится — это земля наша, она так полита русской кровью, что и должна быть нашей. Республики должны быть с нами.
Я с политикой нашего государства именно в данной ситуации согласна — это то, что сплотило нас. Появилась идея, что мы должны быть сильными, независимыми — это, я чувствую, так и должно быть. Мы помогаем с дочерью нашим бойцам — пересылаем то, что волонтёры покупают нашим солдатам. Так было во время войны Великой Отечественной. Действительно же весь народ поддерживал наших солдат. Конечно, я всей душой, с сожалением и большой тревогой слежу и переживаю. За крейсер Москва тоже много слёз пролито.
Война — кровожадная и страшная, беспощадная — такое у неё лицо. Конечно, молодежь наша далеко ушла от понимания этого времени. Но самое главное, конечно, надо помнить… Дети в школах часто выдают: «Лучше бы нас победили» — но они не понимают, о чём говорят. Мы несколько поколений потеряли, потому что стремления были на Запад. И во что мы превратились? Просто в потребителей.
Потеряли такую промышленность. Потеряли вообще всё. Ведь войну мы выиграли из-за того, что наша страна была сильная, мощная. Сейчас мы ждем от молодежи действий, чтобы мы смогли хорошо жить, — нам надо поднимать страну, потому что деды себя ради неё положили.
Дай бог эта война последняя. Мы не рвёмся воевать, но отстоять себя надо. Потому что они нам завидуют, как Гитлер завидовал, — такие просторы принадлежат нам. Ну ничего, отпразднуем День Победы. И над Украиной тоже. «Наше дело правое», как говорил Сталин.
Виктор Иоэльс, 1929 года рождения
«Ну, слава богу не потонул». О ранении в голову, подрыве эвакуационного корабля на мине и повальной бедности карточной системы
Когда началась война, мне было 12 лет. Я в это время находился в Одессе у своих родственников (вообще я москвич, но из-за семейных сложностей туда попал). Накануне мы с моим двоюродным братом совершили, я бы сказал, неэтичный поступок — залезли в соседский сад и попались на этом деле, нас естественно наказали. Поставили ультиматум: либо мы идем к соседям извиняться, либо должны две недели работать у них в саду. Если мы этого не сделаем, нас не будут пускать купаться [в море] всё оставшееся лето. На размышления полчаса.
За эти полчаса мы с братом твёрдо решили бежать — в Испанию (на тот момент там недавно кончилась гражданская война — наши газеты об этом писали). Но без каких-то секунд 12 объявили о том, что по радио будет выступать Молотов [как оказалось — с объявлением о нападении нацистской Германии на СССР], и мы решили послушать сначала его, а потом бежать, ну и пошло всё совершенно по-другому. Лил жуткий дождь. Думаю, Одессу не бомбили тогда именно из-за него.
Тут мы сообразили, что живём во врачебном кооперативе дачном и обнаружили, что половины мужиков уже нету, а оставшаяся половина тоже пакует вещи, потому что это были врачи — они знали, что им нужно быть на своём месте.
Ну, мы с братом тоже создали свою «бригаду самообороны» и проверяли у всех документы — спрашивали, кто, откуда, куда и зачем идёт… Всё это ещё усложнялось тем, что в Одессе была немецкая колония ещё со времен Екатерины — и мы тут же стали следить за этими немцами. Так прошли первые несколько недель. Потом начались бомбёжки и обстрелы. Во время одного из обстрелов меня ранило осколком в голову, до сих пор можно заметить шрам справа выше виска.
А потом наш корабль попал в катастрофу и мы чуть не погибли. Это, пожалуй, был самый страшный момент за все те годы. Мы с бабушкой, братьями и сестрами плыли на торговом пароходе, который спустя два месяца после начала войны повёз несколько тысяч человек (всех, кто смог попасть) из Одессы на Большую Землю, как мне сказали. Но случилось так, что пароход нарвался на мину и стал тонуть, и это продолжалось довольно долго. Ну, слава богу не потонул — почти никто не погиб (только несколько человек). Мимо нас случайно или нет проходило другое судно, по-моему, военное — они увидели, что мы терпим бедствие. Один корабль другому всегда поможет — они подошли к нам поближе и стали перебрасывать людей через борт.
И мы, сейчас смешно сказать, оказались в Мариуполе. Так как я был ранен ещё в Одессе — у меня была забинтована голова — меня, сильно пострадавшего, поместили в тогда ещё хорошее место — Городской драматический театр, где в партере и ложах были лежачие места. Мы ждали отправки дальше и в конце концов дождались, и из Мариуполя по Азовскому морю приплыли к Волгодонскому каналу. Оттуда мы по Волге добрались до Саратова. Это всё заняло месяца два. А в Саратове меня чудом нашла моя мама…
Моя мама, которая умерла три года назад, по профессии — инженер-строитель. Причем она специалист очень большого профиля. Она умела строить дворцы и укрепления и работала в организации, которая была скорее приспособлена (хихикает) для строительства укреплений — Военпроект в Москве. Когда нас эвакуировали, она хотела меня найти, и вместе с тем ей было неудобно отказываться от своих прямых обязанностей. Получилось так, что чисто случайно из Саратова моя двоюродная сестра дала телеграмму в Москву — телеграмма дошла. Мама пошла к своему начальнику (впоследствии генерал-полковнику Комарову) и объяснила свою ситуацию, что ей надо как-то сына встретить.
Он пошел ей навстречу и послал в Челябинск строить трубопрокатный завод. Туда мы и переехали, но из Москвы мы уезжали во время Московской паники — причем это было страшновато даже в мои 12 лет. По городу шли войска, люди штурмовали вокзалы и пытались уехать из Москвы. Объявляли тревогу… Никто не понимал, что происходит. Мы приехали на Курский вокзал днем 16 октября и просидели там аж до 18-го. В конце концов нас вбили в поезд и мы ехали 15 дней до сортировочной горки, а затем до Челябинска.
Мать тут же пошла на площадку, где начиналось строительство — ей было присвоено звание капитана, и в этом звании она прослужила всю войну. А я порадовался тому, что в поселке, в котором нас поселили, не было 5 класса, и в школу можно было не ходить целый год. Детство тогда естественно было иным, нежели сейчас, но это всё равно детство: мы играли с приятелями во дворе в салочки, прятки, казаки-разбойники. А в 13 лет я очень увлекся книгами — постоянно читал. И даже к школе потянуло, потому что там были друзья. Хотя тогдашняя система образования мне очень не нравилась — не нравилось отвечать, не нравилось получать двойки, выслушивать дома… И при этом ещё очень хотелось кушать. А кушать было мало чего — по карточной системе давали очень мало. Был тот возраст, когда ты, к тому же, хочешь быть хорошо одет, а это невозможно. Когда хочется есть и одеться, то тянет уже не только к изучению химии, спряжений и склонений, а к какой-то коммерции. Я в общем человек честный и не воровал, но, когда мне уже лет 14 было, совершал некие коммерческие операции с деньгами и карточками, которые приносили немножко хлеба.
Общество было очень многослойным из-за карточной системы, потому что одни по карточкам получали 400 граммов хлеба, а другие — полкило черной икры. Ходить в гости к мальчику, который завтракает икрой, было не очень приятно, потому что я находился среди тех, кто икру не получал. А те, кто получал, и кто хорошо одевался — номенклатура и ворьё — до войны себе не позволяли того, что им позволяла карточная система. Причем это воровство было открытое — в специальных магазинах получали специальные товары. Даже в фашистской Германии такого не было. Там хлеб все получали одинаково, а икру не давали никому.
За год до окончания войны я устроился на военный завод в центре Москвы, который производил миномётные снаряды н-120 — такие чугунные железки — потому что там давали хлебную карточку. К тому же, я думал, что надо помогать фронту. Там я проработал до конца войны и пошел дальше учиться в школу.
«Война будит в людях все низменные инстинкты». О Дне Победы, судьбах родных и смысле спецоперации
День победы ощущался как самый светлый день того времени — давали салюты и все люди гуляли и сильно веселились. Я в то время оказался в Москве, потому что за год до этого маму по работе вернули туда из Челябинска, и, однако, чувствовал себя довольно одиноко. Приятели, которые были у меня до войны, как-то рассыпались. Мама была в своей воинской части уже в Германии. Я жил с бабушкой, и она плакала о своих пятерых внуках, моих двоюродных братьях, которые погибли на войне. Это были отличные ребята, прекрасные люди. Имя одного из них попало в учебники математики — там есть теорема Волынского — трижды она принималась на веру, а он её доказал ещё до войны, когда ему было 16 лет. В общем ребята были хорошие.
Классического образования я так и не получил. Всю жизнь посвятил искусству — плакатам, художественному промыслу. Лет в 50 написал книжку о народовольцах «Агент первой степени», но она не очень получилась — её переиздавали как-то в Сибири, но я даже не знаю, где её можно найти — у меня было 10 экземпляров, но я все раздарил.
С тех пор отношение к войне у меня лично осталось то же. Война — это страшное несчастье для всех. В первый момент этого не ощущаешь, а потом через некоторое время уже начинаешь понимать…и это чувство не проходит.
О войне с Украиной я узнал по телевизору — он у меня меня почти всегда включен, и я его часто слушаю, но известный жизненный опыт редактирует эти сообщения — ничего хорошего в них не вижу. Что надо России, не знает никто — это очень сложный вопрос, ну вот так складывается. Понимаете, это все складывается из очень многих вещей — из количества золота у государства, из…ну, в общем, всего. И если какой-нибудь человек говорит, что сегодня мы можем объединить вот так, и против него выступает меньше товарищей, то вот так и происходит… Мне очень как-то даже смешно, что русские воюют с украинцами, это такая нелепица. Это неблагородно и не умно.
А символика Z на самом деле не имеет очень большого значения — люди чем-то заняты, делают вид, что делают что-то важное.
На самой войне я не был — несколько раз попадал в траншеи, но это было случайно. Поэтому я свидетель, а не участник. Но могу сказать одно — война будит в людях все низменные инстинкты — всё, что где-то запрятано в глубине души. И этим она очень страшна.
За помощь в работе над материалом и расшифровке большое спасибо Анастасии Евлашиной
#война #история #украина #россия
Больше интересных статей здесь: Война.
Источник статьи: «Символика z у меня вызывает ассоциации со свастикой»: дети войны о «спецоперации» в Украине.