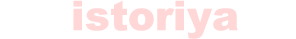Аника шла по чужим землям, где о Господе вспоминали нечасто. Может, вспомнит косарь, как не взойдет урожай; может, припомнит роженица в горячке. Только Аника помнила всегда: и при небе ясном, и в стужу, и под гром. В родном селе или на чужбине.
При этом лик господа она так и не узрела. А Митч — видел. Именно потому она сейчас в этом крае греха, портит и без того стоптанную обувь, добираясь до постоялого двора. Спешит на встречу с Видящим.
— Такова воля Твоя, и не смею...
Аника запнулась, растеряв слова молитвы. Нечестивый коснулся ее руки, подобравшись сзади. Так, будто в любви они с лета. Так, как не касалась ее родная мать до самой смерти.
— Чаго с города забыли? Девок нам тут не хватает, это да, не откажемся.
Нечестивый был не один. Двое присоединились, встав по левое плечо.
— Приютим, приютим.
— Не побрезгуем, поди.
— Даже девкой с колодец в плечах, — низенько захихикал первый.
Аника простила его:
— Господь помилует вас. Ступайте с миром.
В темном предместье божьей милостью подтирались: алчные пальцы потянули ее за плащ. Пришлось напомнить о смирении: первому она согнула руку, как веточку хвороста. Второму подправила нос. Все трое дышали, когда Аника отправилась дальше, зализывая содранную кожу на кулаке.
На подступах к Шлитсе пейзажи не изменились. Не менялся и люд.
Косились снизу вверх, сутулили плечи, вжимали головы, ускоряли шаг. Грубили, подшучивали. Аника не осуждала их — всякому свое мерило, а уж какое — то Господу решать. Она поправляла лютню на плече, и кожа под накидкой совершенно не зудела от похода и грязи. Грубая, добротная кожа — не молочный бархат недотрог, градских красавиц. Кожа, несущая пользу, от матери лучшее наследство. Вторая броня. Первая, как положено — руководство Всевышнего.
В большом и малом городе, в селе, на тракте — всегда найдутся с Господом незнакомые лица. Вот и здесь, в семи милях от развилки, в них со Всевышним стали сомневаться:
— Дикая баба, бродяжка ли? Воровка? Как звать?
— Гля, лютенка при себе. Да ладная! Не своя, утаранила, взяла с околицы...
— А энто по голосу видно станет. Баба, спой!
— Я не пою, — честно отвечала Аника, не сбавляя ход.
— И не играешь?! — кивнули на лютню за спиной, то ли с разочарованием, то ли с интересом.
Аника молчала, и спокойный шаг служил ответом.
— Зачем же тогда ты ее носишь, женщина?! Сознайся, у кого крадена? — покричали ей вослед. Как кричали везде: на разный лад, с местечковым говором, да все — об одном.
Аника тоже грешила любопытством, но вопросы держала при себе. Зачем они носят голову, если там от Господа ничего не осталось? Зачем без толку шатаются вдоль дорог, не принося пользы?
Любопытство погубит. И не даст избавления: если Он не дает ответов, значит, таков замысел.
На длинной дороге, что привела Анику к вывеске «Кормчие Шлитсы», немало соблазнов. И все же, она пришла вовремя. Митч ждал ее на постоялом дворе. Ждал с доброй вестью, ибо от Господа всякий знак — счастье.
Есть в мире тайны, которые нужно хранить от нечестивых. Вот и Митч подобен росе в предрассветный час — явится затемно, к утру пропадает. На то он и Видящий! Коли с Богом беседу водишь, указы небесные разобрав: тебе ли бояться земного мрака?
Приглядевшись к просторному залу, опустевшему под вечер, Аника еле различила Митча в углу. Тайны лучше всего хранятся под чехлом: так и десница Господа весь облачен в ткани. Остается лишь тонкая прорезь на лице, повыше носа, под глаза.
Она не поет, а Митч не носит лица. Их свел сам Господь.
— Благословлен твой путь, сестра.
Человек без лица говорил не о кровном родстве, сестрой называя. Они ближе, чем семья.
— Видящему весь свет благ, — с почтением склонила голову Аника, сутулясь под низким потолком.
Митч раскрыл ладонь и указал на скамью напротив, как радушный хозяин зовет в гости. Хоть и знал, что неразлучны они и за сотню верст. Близость, как у людей, одну утробу деливших. Но никогда — постель. Аника села, и скрипнула мебель. В краю безбожников и петли кричат.
— Нашла ли ты прощение? — пытливо смотрели глаза из прорези на ткани. Руки — под столом, плечи сведены. Хоть и нечего бояться посланнику Господа даже в этом краю.
— Еще нет. Но скоро, — заверила его Аника, слукавив.
Скоро или нет — Видящему оно ясней. Митч не стал упрекать за ее оплошность, переходя к службе:
— Как и было сказано, в твоей милости нуждается...
— Милости Всевышнего? — уточнила Аника, подавшись вперед. От Митча пахло хлебом и мыльным корнем. Чистый в помыслах — чист и телом.
— Длань Господа есть часть его, — Митч, как всегда, все расставил по местам. Утешил словом, заполнил надеждой.
— Скажи мне, кто предстал в видении твоем.
— Сын божий, Вит: на попечении шестую неделю, не сходит жар. Третий дом его, по левую сторону от колодца. Найдется тот в сотне шагов, как минешь остов погорелый...
— Кого забрал огонь? — Аника приложила ладонь к груди — там, где давно кости срослись от удара.
— Часовню.
Сказал легко, без ложной горести, плохой игры, уверток. Митч ведал о смирении больше, чем Аника. Что должно случиться — то случилось. Ей бы ту же решимость...
— До чего горестный край, — Аника вытерла слезы, ползущие по щекам.
— Потому мы здесь, сестра.
Улыбалась Аника от всей души, все печали позабыв — такую силу ей дарил человек без лица. Митч на две головы ниже, почти как все мужчины на ее веку. Да только в малом теле сердце больше, чем у Аники.
Мимо остова часовни она прошла легким шагом, будто наполнившись верой, заняв ту у десницы Господа.
***
Чужой дом притих, как сгустились сумерки, перезрели. Семья отправилась ко сну, да работали те небрежно: по полу грязь постелена, на окне не висит святого образа, во двор лицом обращенного. Не удивительно, что нашла их болезнь.
Аника прикрыла за собой дверь так же тихо, как отворила. Нашла мужчину за вторым порогом, как и предсказано: Вит жмурился в полусне. Беспорядочно что-то наговаривал, шевеля губами. В отдельной спальне не гасили свечи, словно бы нравилось домочадцам смотреть на муки родного круглый день.
— Я спасу тебя, не бойся, — подсела Аника на краешек кровати. Мужчина, кажется, ее и не слышал: весь взмокший, как щенок из лужи. Бледнее савана, никак не надышится. Чужой страх осел на стенах, влип в паутину, колол Аникины пальцы.
Несчастный, несчастный Вит. Господь не любит, когда люди страдают зазря. По крайней мере, не дело, что страдает этот человек — ведь привели Анику к его постели.
К остальным она заглянет позже.
— Милость Господа нашего не знает границ. Будь кроток, и дарует он...
— Мариам, это... ты? — зашептал мужчина в бреду, перебивая. — Воды, прошу...
— Реки полны, и небо светит. Больше не будет жажды, горя, греха, — Аника вытащила подушку из-под дряблой шеи, потного затылка мужчины. — Нет хвалы достойной Его величию...
Подушка обняла лицо Вита, как тина липнет к ногам. Тот заворочался. Подобрал колени к животу, ощупал запястья Аники. Забился. Взвились перья, пыль, глушенный крик. Она вздохнула, покачав головой: все противятся, хватаются за страдание, будто оно им в дар. Благие умом, слабые телом. Аника прижала ладони Вита к подушке с бережной силой.
— Краток земной час, — шептала она, улыбаясь. Чужая боль уходила, затихала. Исчезнет вот-вот. — Вечно благо на небесах. Жди меня там, не жди, а все равно встретимся.
Аккуратно опустив его руки вдоль тела, Аника вернула подушку под чужую шею. Закрыла чужие глаза, стирая печать тревоги. Безмятежное лицо мужчины смотрело в потолок. Теперь он видит без страха, смятения, из-под закрытых век. Господь принял его, простив.
— Я покажу тебе путь, — шепнула она, исполняя волю небес.
Оставив свечи догорать, Аника распрощалась с домом: склонила голову в благодарности. И вернулась в гущу леса, поодаль от людей, их грехов и суеты. Там ее ждали вечные спутники: ночь, одиночество, костер и лютня.
Наладив струны, Аника потянула за ту, что лежит посередь прочих. Пробежала пальцами вниз, будто к истокам, нашла погребенную ноту — грубее преисподней, хуже первого греха. Плясала пыль во всполохах огня: карающего, очистительного. Пальцы увели мелодию ввысь, каскадом, наплывом: как ручеек бежит по порогам скал. Из груди поднялся звук: радостный, ликующий. Он вторил струнам, отворяя врата небес.
Мучители и безбожники не знают, что она не поет, а провожает.
***
Через два дня Митч ждал ее в тени угла за кривым столом. Да только сменилось место встречи: постоялый двор «Венец» в сутках пути от Шлитсы, где провожала она Вита, где простилась с часовней. Аника села напротив Видящего, и так же скрипела скамья безбожного города.
— Обрел ли страждущий свой покой, сестра? — спросил человек без порока и лица.
— «Покорной Господу будь», я покорна. «Смиренной и кроткой, в помощь другим»...
— Хвала его милости, — нетерпеливо ответил Митч, и осторожный взгляд мелькнул в прорези для глаз.
Аника не спросила, для чего Видящему узнавать о том, что свершилось. Возможно, Господь указывает лишь на грядущее. А о прошлом скорбеть и говорить — удел детей Его.
Пальцы Митча нырнули в кожаный кисет, где по обычаю хранится табак, и вновь совершили чудо. Вместо скрученных листьев и пыли, на ладони тускло блеснуло золото. Сотню раз прав пастор из родного села: подчинись воле божией, и карман твой будет полон, а путь — легок, в стоптанной ли обуви, или вовсе без нее. Вот и Митч, хоть и не молится столь усердно, получил за верную службу.
Анике золото — не желание, лишь средство в помощь телу. И потому принимала она его без споров, с благодарностью.
— Сестра, нашла ли ты прощение? — Митч приподнял ткань с лица лишь для того, чтобы отпить горечь забродившего хлеба. Пена осела на короткой щетине. Он беспокойно — как показалось Анике — утер губы рукавом. Вторая рука его спряталась за пазухой. Там, где носят походный нож.
Любопытство который год призывало ее спросить: для чего Видящему, деснице Господа, носить с собой лезвие? Но она не сдавалась греху. У всех свой путь, и каждый наделен недостатками. Господь не обязывался сотворить их безупречными. А, может, совершенство Его замысла и состоит в несовершенстве людей: ее, Митча, тех пройдох на тракте...
Несовершенна и семья. Если бы только мать была чуточку умнее! Если бы только она прозрела. До смерти, или теперь, на небесах. Аника всегда была сильной девочкой: с тех пор, как явилась на свет. Образец послушания, доброй воли — она примирилась со многим. Не так крепко, как Митч, конечно. Если бы только ей хватило еще самой малости: жаждать прощения не от смертной женщины, а от Всевышнего. И только от Него.
Но люди несовершенны. Одним на роду написано процветать и дарить свет. Другим — муки искупления. Ее младший брат не сразу получил божью милость, а горе настигло его на первом году жизни. Он кричал, елозил ногами, брыкался. Мешал матери спать. Мешал Анике. Его боль не уходила много-много месяцев. И только у родной сестры нашлось столь большое сердце, чтобы помочь. Одна надежда, что Господь, там, на небе, расскажет матери, скольких она спасла помимо брата.
— Нет. Пока нет, — созналась она Митчу в грехе. Ведь Всевышний простил ее давным-давно, и того должно быть достаточно.
Митч выдохнул и положил вторую руку на стол. Пальцы кулака разжались, как расходятся лепестки перед лучами солнца. И голос прозвучал нежнее рассвета:
— Тогда увидимся в Здравице через половинку луны.
Аника кивнула.
— Если такова будет воля Его.
— Истинно так. И, Аника... — Митч почесал нос под тканью, поднявшись со скамьи. — Господь не желает, чтобы ты захворала. Замени сапоги к осени. Если, конечно, ты снова не запоешь...
— День, когда прощена буду, спразднуем вместе.
— Таков уговор, — согласился он. И пропал за широкой дверью. Только и оставил от себя запах мыльного корня, да хлеба.
Аника скромно поужинала сухарями с водой. На все воля Господа, но... кажется, Митч от чего-то страдает: плечи его сильно поникшие, почти сутулит спину с прошлого покоса. Возможно, скоро придется помогать и ему, как бы ей от того не становилось тяжко в груди. Как бы не веяло холодом у спины.
В ее большом сердце места хватит на всех.
— И я сыграю для тебя, мама. Ты обязательно прозреешь, — сказала Аника небу и оплатила ночлег. Завтра ее ждут новые сапоги и новая работа.
***
За полдня до встречи в «Венце»
Они собрались в прилеске через день от смерти Вита. Свояки не любили ждать, и потому Митч пришел вторым, чуть разминувшись с Огарком. Костер развели быстро, отобедали уже все вместе. А после — к делу.
Рябой с Глыбой точили ножи, а Бодун пересчитывал монеты. Все сходилось, хвала богам.
— Митч у нас — умище, — в пятый раз похвалил его Глыба.
При дележке снова выяснилось, что на всех делить плату — каждому по малой горстке останется. Свояки завели старую песню:
— Ума палата, да живем небогато.
— Господь мне в свидетели, под святым не заработаешь, — дерзнул Рябой, отступив на полшажочка в сторону, явно струхнув перед дракой.
— Папаша мой пастором был, не путай, — глянул исподлобья Митч.
— Каков сын, таков и отец, — отшучивался Рябой, как хвост поджал.
Митч отвечал сурово, оскалив зубы. Здесь ему не надо прятать лицо — пусть видят, щенки, на кого брешут:
— Кто Виту спелец подсыпал, я? Отец мой? Может, сам господь, едрить его, бог?
Тупые морды свояков застыли. Митч продолжил:
— Он бы до зимы помирал, олухи. Травить научитесь, а не скулить, чтоб дела в гору пошли. За вами промашку исправит и баба... с дырой в голове.
При образе Аники, возникшем в памяти, у Митча закрутило живот. И давно так? Как бы узнать...
— Грешно смеяться над убогими, ваше препа-адобие! — загоготал Бодун, по привычке облизывая пропуск между зубами. Замял тему, заразил свояков смехом. Ну, хоть в этот раз драки не случилось. Тело и без того ломило от вечера в седле, а ведь еще завтра в дорогу.
Ехать совершенно не хотелось. Хоть и помнил Митч, что Анике доля причитается — спасла их от гнева заказчика. Спасала который раз.
— Кто еще тут убогий, — буркнул он едва слышно и сам подивился своей мысли.
Митч знал, чем отличалась Аника от наемных убийц, или обезумевших попрошаек при каждом храме. Знание пустило в душе грубые ветвистые корни: жалость, что не проживет та без его ремесла и неделю; благодарность, что не подводила еще, вопросов не задавала; сомнения — по болезни ли слушает, по своей воле?
А еще в Митче прочно зрел страх. Слово — что тонкая уздечка на диком тигре. И когда-нибудь она порвется.
Автор: Легитимный Легат
Больше интересных статей здесь: Ужас.
Источник статьи: Провидение.